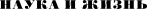6. МЕСТО В АДУ
И лучшему из врачей место в аду.
Талмуд
Свадьба — событие замечательное, приятностию своею веселящее дух и заключающее в себе, по мнению просвещённых французов, пятнадцать чистых и негреховных радостей, из которых четвёртая есть удовольствие от лицезрения брачной церемонии и сопровождающих её празднеств.
Третий день столица испанских владык, древний город Толедо, ликовала, веселясь на свадьбе любимого короля Филиппа Второго и Изабеллы Французской. Хотя новобрачные прибыли сюда через неделю после венчания, но посмел бы кто-нибудь намекнуть, что свадьба состоялась не здесь! Толедский клинок длиннее самого длинного языка и сумеет, если надо, укоротить его.
На башнях жгли бочки со смолой, всюду, где позволяло место, поперёк улочек поднимались триумфальные арки, увитые редкими в суровое зимнее время цветами. Стараниями городских рехидоров всякий день назначались новые зрелища: на Тахо представляли бой с мавританскими пиратами, в обновлённых развалинах римского цирка тореадоры под нескончаемый рёв толпы повергали на землю быков, на площади перед Альказаром бились на турнирах рыцари, а за городом на просёлочных дорогах мерялись резвостью лошадей босоногие всадники. Маленькие оркестры — две виолы, контрабас и тамбурин — играли прямо на улицах, а гитару и кастаньеты брал в руки каждый, кто умел петь и танцевать. Фонтаны сочились драгоценным хересом и малагой, ещё больше подогревавшими энтузиазм горожан.
К четвергу праздник достиг апогея, на четверг назначили самую блистательную его часть — торжественное аутодафе, подобного которому не видывали жители Толедо.
Саму церемонию по причине небывалого скопления народа вынесли из собора на кафедральную площадь, действие происходило на паперти, напротив которой плотники в одну ночь выстроили возвышение для королевской четы и двора. Остальную часть площади отдали народу, и с самого утра густая толпа забила её.
Везалию, как лицу наиболее приближённому к его величеству, выпало стоять на помосте в первом ряду. Здесь, на виду у всех, приходилось постоянно помнить об этом. Нельзя не только отвернуться, но даже на минуту прикрыть воспалённые глаза. Одно движение навлечёт подозрение в ереси, ведь он фламандец, а значит, почти еретик. Попробуй не выказать должного рвения, и твоё место переместится с королевского помоста на паперть, среди примирённых.
Солнце золотом плескалось на епископских митрах, на бляхах и геральдических цепях, сверкало на серебряной вышивке и клинках обнажённых шпаг. Ночью, как часто бывает в далёких от моря краях, ударил неожиданный мороз, превративший в фарфоровое кружево цветы на триумфальных арках, и теперь в холодном воздухе звуки разносились далеко и отчётливо.
— Рассмотрев и обсудив дела, высказывания и иные суждения Шарля д'Эстре из Брюсселя, пажа его католического величества, святой суд квалифицирует их как отчасти еретические и для исправления оных приговаривает упомянутого Шарля д'Эстре к публичному покаянию и отречению от приписываемых ему мнений, а также для облегчения его совести предлагает примирённому еретику д'Эстре в продолжение трёх дней являться к святой мессе в покаянной одежде и с непокрытой головой, слушать мессу, стоя на ступенях, не смея войти в храм...
Этот, кажется, вывернулся. Но его единственное преступление состояло в том, что он фламандец, так же как и Андрей. Испанская инквизиция любит иностранцев — за них некому заступиться.
Но как могло случиться, что он попал сюда и вот уже три месяца вся его жизнь состоит из торжественных приемов, медлительных пышных церемоний, враждебных взглядов идальго и обязательного присутствия на аутодафе?
И так изо дня в день, до конца жизни?!
А ведь он полагал, что поступает правильно, когда покинул Падую и отправился в Брюссель, где ему обещали защиту и покровительство императора Карла. Проклятие учителя и предательство учеников сделали для Везалия невыносимой саму мысль о продолжении работы. И лестное предложение Карла подоспело как нельзя кстати.
Поначалу всё шло замечательно. Недужные фламандские графы наперебой зазывали к себе известного медика, старый друг Иоанн Опорин из Базеля согласился начать выпуск второго издания «Семи книг». А сам Везалий «впал в безумие и женился», именно так говорят о семейных профессорах. И ни разу не пожалел он о своём «безумии».
Одно огорчало Андрея: пациентом император оказался неудобным и строптивым, а многие болезни лишь усугубляли трудности. Приступы подагры и хизагра, изуродовавшая руки, приливы крови, после которых венценосного пациента мучили вертижи, боли в животе, астматическая одышка. Как душа держится в этом крепком когда-то теле... Осмотрев и опросив Карла, Везалий составил план лечения, который никогда не смог осуществить.
— Диета?! — воскликнул фон Мале, камергер, отвечающий за стол повелителя. — Цезарь и так всю жизнь соблюдает диету! Но учтите, его диета — особого рода. Если он захочет мяса, вы должны будете прописать ему мяса, немедленно и побольше. Придёт желание покушать рыбы — чтоб тотчас готовили рыбу. Потребует пива — не вздумайте отказать ему. Если верить придворным физикам, цезарю полезно всё, от чего хворают другие: острое и жирное, наперчённое сверх меры и тяжёлое для желудка. Врачи слишком снисходительны к государю, они приказывают или запрещают ему только то, что сам цезарь хочет или не хочет.
Скоро Везалий убедился в правоте слов фон Мале. За обедом император подолгу валял во рту куски жареного мяса, разжевать которое не мог, потому что зубы его чересчур длинной и широкой нижней челюсти не касались верхних зубов. Божественный Карл глотал устриц в уксусе, сосал солёные маслины и запивал всё неимоверным количеством крепких вин. Он отмахивался от увещеваний Андрея движением унизанного перстнями мизинца, не считая нужным даже возражать. Таким владыка полумира являлся во всём: неумеренным не только в еде, но и в страсти к женщинам, власти, славе и, благодарение Богу, наукам. Всё же Карл был просвещённым государем, знал цену разуму и покровительствовал многим учёным мужам.
Потом наступала расплата. Цирюльники бегали по залам с грелками, тазиками, полотенцами и флаконами ароматического уксуса. Карл полулежал в любимом кресле со специальными подставками для больных ног и громко стонал от нестерпимой боли в изувеченных пальцах.
Собрался консилиум. Как положено с древних времен, врачи успокаивали больного, обещая ему всё свое искусство. Затем по очереди, начиная с младших, высказывались о причинах болезни и способах лечения.
— Сгущение влажных и холодных соков вследствие неблагоприятного климата, — констатировал Винсент Серразус. — Полагаю назначить грелки и укрепляющее питьё. Поражённые места укутать сухой фланелью, после чего болезнь должна разрешиться и боли успокоиться.
— Переполнение, — мрачно объявил Андрей. — Избыток крови, образовавшийся от злоупотребления густыми и питательными блюдами, застаивается и загнивает в местах с наиболее узкими протоками, каковы пальцы рук и ног. Предлагаю растирания, горячие ванны и, как советуют афоризмы Гиппократа, строгую диету: безусловно запретить вино, мясо, турецкие бобы. Ограничить рыбу. Показаны лёгкие овощи: морковь, капуста, пастернак. Пить — отвар сухих яблок и иных благовонных плодов с мёдом...
— Ты с ума сошёл!.. — слабо сказал Карл.
— Мой молодой коллега прав, — осторожно начал Энрико Матезио, врач сестры императора Марии Венгерской, — предложенное им лечение воистину хорошо. Но не стоит пренебрегать мнением мудрейшего Авиценны, сказавшего, что привычка — вторая натура, и потому не следует оставлять дурного сразу, а нужно постепенно. Я бы поостерегся назначать суровую диету. Следует соблюдать умеренность. Тот же Гиппократ заметил, что слишком строгая диета в болезнях продолжительных всегда опасна.
— Вот именно, — подтвердил император.
Тогда Везалий поступил иначе. Он стал назначать лекарства, тем более что Карл с готовностью пил микстуры и глотал облатки. Правда, медицина не знает верного средства от подагры, но Веза-лию хватало средства от обжорства, и он прибег к давно знакомому китайскому корню, который на самом деле был не корнем, а корой и не имел никакого отношения к Китаю.
Хина, хина и ещё раз хина во всех видах. Карл пожелтел, он жаловался на невыносимую горечь во рту и звон в ушах, но зато известный всему миру аппетит уменьшился до приемлемых размеров, и приступы отступили. Таковы пути придворной медицины.
К подобным злоключениям Везалий привык давно, а других причин жаловаться на жизнь не было. Он даже снова потихоньку начал заниматься наукой: для музеума в Лувене изготовил человеческий скелет; восстановив по памяти кое-что из сожжённого во время падуанского бегства, написал и издал небольшую книжечку «Послание о китайском корне». В этом сочинении он обобщал опыт использования хины и рекомендовал её как наилучшее средство против изнуряющих лихорадок, горячек, сифилиса и подагры. Везалий даже подумывал обратиться к императору за позволением прочесть несколько публичных лекций по анатомии, как вдруг неожиданное событие перечеркнуло все планы.
Двадцать пятого октября одна тысяча пятьсот пятьдесят пятого года венценосный Карл Пятый, божьей милостью император Священной империи, удручённый многими неудачами в войне и мирных делах, уставший от бремени власти над государством столь необъятным, что впервые можно было сказать, не погрешив против истины, о солнце, никогда не заходящем в его пределах, владыка более великий, нежели Александр, созвав грандов испанского королевства, нидерландских принцев, самовольных германских курфюрстов, итальянских герцогов и иных подвластных вассалов, в присутствии кавалеров ордена Золотого руна и сестёр своих — вдовствующих королев — добровольно отрёкся от престола в пользу своего сына Филиппа, сложил с себя императорское и королевское достоинство и навсегда затворился в небольшом и дотоле никому не известном монастыре Святого Юста в диких горах Эстремадуры.
С собой монашествующий император взял скромную свиту из ста пятидесяти человек. Тут-то и дали себя знать горькие воспоминания об отваре китайского зелья — в Эстремадуру отправился покладистый Энрико Матезио, а Везалия вместе со многими другими придворными Карл передал новому испанскому королю.
Впрочем, памятуя о некоторых особенностях любимого сына, в специальном декрете Карл оговорил, чтобы Филипп не смел преследовать тех, кому Карл обещал покровительство. Счастливцы были перечислены поимённо, и на этот раз Андрей обрёл себя среди избранных. А вот Шарль д'Эстре, в ту пору двенадцатилетний мальчик, не обратил на себя державного внимания, поэтому и стоит сейчас, переступая босыми ногами по заиндевевшим плитам, и не смеет даже мечтать, чтобы вырваться из проклятой Иберии и пойти, ежели возьмут после понесённого позора, на службу к графу Эгмонту, Вильгельму Оранскому или другому вельможе, известному нелюбовью к злому испанскому семени.
Но и в жизни счастливчика Везалия многое переменилось. На приватную просьбу о лекциях ему мягко напомнили, что он ещё не смыл прошлый грех. «Постановлением святейшего собора вскрытие человеческого тела, созданного по образу и подобию божьему, квалифицировано как оскорбление божества и, следовательно, смертный грех, разрешение от которого не может быть дано никем, кроме его святейшества папы. Нам известно, что прежние ваши секции были проведены до принятия и опубликования соборного постановления, тем не менее, памятуя о сохранении вашей души...» В этих тяжеловесных формулировках слышался явственный глас испанской инквизиции, слухи о введении которой в нидерландских провинциях будоражили население. Оставалось только покориться. Вместо лекций Андрею пришлось заказывать и отстаивать долгую службу за упокой грешных душ висельников, послуживших ему некогда секционным материалом.
Многие дела требовали присутствия Филиппа в Нидерландах, Англии, Италии; и всюду — безгласный и незаметный — ездил за ним придворный врач. Лечить Филиппа несложно; привыкший к многодневным постам, находящий в них особую фанатичную радость, монарх с мрачной готовностью следовал самым строгим предписаниям. Подагра, доставшаяся ему по наследству, обещала мучить его не столь жестоко, как неумеренного Карла. Иной раз Андрей с трудом назначал королю укрепляющий режим.
Наконец, объездив все европейские владения и многие сопредельные страны, король прибыл в Испанию. Здесь-то и раскрылась его прежде замкнутая душа. Вальядолид встретил монарха грандиозным аутодафе. Спустя месяц церемония повторилась. Оба раза Филипп был в центре событий. Сжимая обнаженный меч, государь произносил клятву верности святому суду, поставив его выше своей собственной власти.
Отказаться от участия в страшном празднике не смел никто, ведь сам король не только являлся на праздник, но и сопровождал процессию за городские стены, где на площади огня — кемадеро — лютеран, нераскаянных и вновь впавших в ересь, ожидали костёр, железный ошейник гарроты, казнь в яме, на плахе или у столба.
А теперь Толедо превзошло вальядолидские казни. На паперти расставлено больше шести десятков человек: заподозренные в ереси по причине высказанных спорных или новых истин — жизнь этих несчастных зависит от искусства, с которым они защищали себя, и от наличия покровителей; двоежёнцы, которым предстоят плети и галеры; ложные доносчики, погубившие наветом невинных, — к ним инквизиция снисходительна; потомки мавров, чьё имущество церковь пожелала конфисковать; ожидающие костра последователи де Сезо и маркиза Позы — люди всех сословий и разных убеждений. Немногие, сумевшие бежать, будут преданы огню в изображениях, а одна иудействующая монахиня, усугубившая свои преступления тем, что во время пытки на эскалере посмела умереть, притащена на площадь в перевернутом гробу.
Обвинительные акты прочитаны, приговоры оглашены, осуждённые священники лишены сана, примирённые с церковью — покаялись, смолкло пение, акт веры закончен. Образовалась процессия: впереди в окружении стражи присуждённые к измождению плоти, затем инквизиторы, королевский двор, следом толпы чёрного люда. Шествие медленно тянулось по извилистой Садовой улице, мимо монастыря кармелиток к Пуэрто дель Соль — воротам Солнца.
Справа от Везалия, уставив взгляд в землю, брел Руис де Виллегас — придворный поэт, как и Андрей, завещанный Филиппу Карлом. Губы Виллегаса беззвучно шевелились, должно быть, он выискивал рифмы для новой поэмы или подбирал изящное сравнение среди немногих, что не могли навлечь гнев духовных отцов напоминанием о языческих верованиях. Что делать, новый король не любит свободных искусств.
Везалий приподнялся на носки, стараясь увидеть через головы идущих невысокую фигуру Филиппа. Странно, неужели короля нет? Мелькает лиловая мантия Фернандо Вальдеса, великого инквизитора, рядом возвышается герцог Альба — его длинная голова покоится на тарелке плоённого жабо, словно отделённая от туловища и подготовленная к показательному препарированию. А между Вальдесом и Альбой никого нет, ни короля, ни его пятнадцатилетней супруги!
Толедо окружён зубчатой, ещё маврами выстроенной стеной. Ворота Солнца — высокие и узкие; среди арабесок прячутся бойницы. Арабские мастера прежде всего заботились о том, чтобы выстроить сильное укрепление, а не удобный вход в город. Ворота не могли пропустить сразу всех, у арки возник затор.
Везалий стоял, терпеливо ожидая, когда освободится проход. Чья-то рука коснулась его плеча.
— Домине, — услышал Везалий, — его католическое величество повелели вам немедленно прибыть в Альказар.
Везалий облегчённо вздохнул и, расталкивая толпу, двинулся за пажом.
Заболела королева. Везалия провели в верхние покои, отведённые Елизавете Валуа — Изабелле, как переиначили её имя испанцы. Больная жаловалась на слабость и ломоту в костях, у неё был легкий жар, глаза лихорадочно блестели, лицо покраснело и обветрилось.
Филипп, сидевший в кресле у стены, молча наблюдал за Везалием, потом сказал:
— Королева немного переутомилась. В столь нежном возрасте непросто выдержать длинное, хотя и благочестивое действо.
— Ваше величество, — серьёзно сказал Везалий, — осмелюсь ради блага ваших подданных просить вас покинуть покои больной. У королевы оспа.
— Оспа?.. — протянул Филипп. — А где же гнойнички? Мне кажется, лёгкая простуда...
Везалий осторожно повернул руку больной и провёл пальцем по внутренней стороне предплечья. Появилась белая полоса, на которой, прежде чем она исчезла, обозначились красные точки.
— Это не пустулы, это сыпь, — сказал Везалий, — пустулы возникнут позже.
— Хорошо, доктор, — покорно сказал Филипп и вышел, прикрыв за собой дверь. Болезнь Изабеллы, захваченная в самом начале, не угрожала жизни юной королевы. Но больше, чем жизнь, королеву и всех окружающих волновало другое: сохранит ли она красоту? Сколько политических планов, связанных с домами Габсбургов и Валуа, грозило погибнуть, если Изабелла останется рябой! Сильнее всех беспокоило состояние дочери Екатерину Медичи. Один за другим скакали из Парижа курьеры, французский посланник дважды на дню заезжал к Везалию справиться о здоровье госпожи.
Везалий спал с лица и почернел от бессонницы. Он выходил из верхних покоев Альказара, только чтобы объяснить поварам, как лучше готовить питательную кашицу, или отчитать аптекаря за дурно просеянную туцию для присыпок. От нескольких рябин на лице больной зависели его благополучие и самая жизнь.
По счастью, лучшим союзником Везалия оказалась дочь Марии Медичи. Её будущая власть, влияние и свобода тоже зависели от того, сколь полно очистится лицо. Даже в минуты бреда королева не пыталась раздирать свербящие нарывы, ни разу двум монахиням, дежурившим у постели, не пришлось хватать её за руки.
Занятый компрессами, примочками и пудрами, Везалий сумел забыть о мучительных представлениях аутодафе и вообще о святой инквизиции. Но она решительно напомнила о себе.
У королевы случился повторный приступ горячки, какой часто бывает при подсыхании пустул. Она металась на кровати, укрытая красными одеялами, и жалобно бормотала по-французски:
— Огонь! Уберите огонь!
К этому времени Везалий уже не боялся за жизнь и за нежность кожи родовитой пациентки и потому просто сидел, слушал бред больной и думал. А ведь немалую роль в болезни Изабеллы сыграло зрелище, которым попотчевал её любящий супруг. Неужели произошедшее ничему не научит его ?
Взгляд Везалия упал за окно, откуда был виден город, зажатый стенами, и Арабское предместье на севере. С кемадеро лениво поднимался столб густого чёрного дыма.
— Больно! — всхлипывала Изабелла. — Уберите огонь!
— Закройте окно! — вне себя выкрикнул Везалий, но, перехватив взгляд одной из монахинь, добавил сникшим голосом: — Королеве может повредить чересчур яркий свет.
Рохелио де Касалья умер вследствие многих ран, понесённых на службе у католических величеств в продолжение более чем трёх десятков лет. Андрей до последнего часа находился у постели больного и уступил место лишь священнику, пришедшему с последним напутствием.
А вечером того же дня домой к Везалию явился секретарь герцога Мендозы, в войсках которого служил покойный. Герцог желал знать, отчего умер де Касалья.
Везалий высказал свои предположения, но посланный остался недоволен. Герцогу нужны не догадки, а точно установленная причина.
— Верную причину может указать лишь вскрытие тела, — с досадой сказал Везалий и отвернулся.
— Я доложу о вашей просьбе его сиятельству, — ответил секретарь. — Смею думать, что она исполнима, особенно если вы сопроводите работу приличными случаю пояснениями для кавалеров его величества.
«Я ни о чём не просил», — хотел сказать Везалий, но слова завязли в горле.
Ночью он не сомкнул глаз. Неужели ему доведется ещё хотя бы раз провести секцию? И где? В страшной Испании! Шесть лет, прожитые в Толедо и Мадриде, казались Везалию сущим адом. Правда, в ад попадают после смерти, но Везалий и считал себя мёртвым. По Аристотелю, рука, отделённая от тела, лишь по названию рука. То же можно сказать и об анатоме, оставившем анатомирование.
Давно уже Везалий не задумывал новых сочинений, всё реже писал немногим оставшимся друзьям. Новости приходили к нему редко и с большим опозданием, книги чаще всего не доходили вообще. Везти книги в Испанию — чистое безумие, здесь кроме утверждённого папой индекса запрещённых книг действует особый индекс инквизиции, а сверх того всякий епископ вправе составить собственный список недозволенных сочинений. Даже невинные «Медицинские парадоксы» Леонарда Фукса запрещены к ввозу в королевство на том основании, что двадцать лет назад за этот трактат публично заступился хороший приятель Андрея — Мишель Вильнёв, он же Мишель Сервет.
Но и немногие дошедшие вести говорили, что новая анатомия больше не нуждается в ежедневной опеке и сама может защитить себя. Везалию оставалось только молчать в ответ на нападки Сильвиуса, зато никому неведомый Ренат Генер из далекой Швабии, которого клятва Гиппократа не обязывала быть почтительным по отношению к парижскому профессору, опубликовал апологию в защиту Везалия и жестоко порицал Сильвиуса, обещая ему бесчестие в глазах потомков.
От Андрея отвернулись ученики, зато славный муж Габриэль Фаллопий, занявший после Колумба падуанскую кафедру, объявил себя учеником и последователем Везалия, хотя ни разу в жизни не встречался со своим названным учителем.
Порой Андрею казалось, что он на самом деле уже умер и просто благосклонная судьба даёт ему возможность бросить взгляд на землю из ада, где он мучается, и узнать судьбу своих дел.
Это было тем проще представить, что большинство друзей и недругов окончили земной путь. Умер ученик Тициана Стефан Калькар — художник с верным глазом и твёрдой рукой, прославивший «Семь книг» своими рисунками и сам прославленный ими. Отправился на поиски «великого, быть может» весёлый и горький мудрец Франсуа Рабле, а несколькими месяцами спустя яростный Кальвин предал огню Мигеля Сервета. Только теперь Андрей узнал настоящее имя того, кого он привык называть запросто Мишелем.
Сервет, проявлявший доблесть лишь на бумаге, перед смертью победил природную робость и умер гордо, не поступившись и малым из того, что исповедовал. Напрасно подосланный Кальвином де Форель кричал, размахивая пергаментным листом:
— Вот отречение! Подпиши — и костёр раскидают! Но с вершины эшафота слышалось:
— Дайте его сюда! Пусть оно сгорит со мной!
Мигель погиб, оставшись загадочным, словно сфинкс. Этот человек мог так много, а сделал менее других.
В том же году тихо скончался в родной Вероне Джироламо Фракасторо, всеми почитаемый и никем не понятый. Траурным выдался для медицины год тысяча пятьсот пятьдесят третий.
Вслед за друзьями начали уходить и враги.
Якоб Сильвиус, так и не примирившийся с мятежным учеником, перешел Стикс вброд, чтобы сохранить лишний обол, не отдавать его алчному Харону.
Ругатель Колумб, громогласно обещавший издать курс анатомии, в котором докажет, что всё сделанное Андреем украдено у него, умер от чумы, так и не опубликовав ни единой строки. И уже из гроба сказал он последнее слово, сильно смутившее Андрея. Наследники Колумба выпустили в свет книгу «Об анатомии» — жалкую пародию на труд Везалия, книжонку, полную мелкого воровства и бессильной клеветы. Лишь одно место поразило Андрея — где Колумб писал о роли сердца и лёгких. Видно было, что это и есть то, ради чего написан труд, менялся даже сам тон автора, слова звенели, словно были оттиснуты не на бумаге, а на меди.
Неужели Реальд Колумб, на которого Андрей даже злиться не мог, для которого не находилось иного названия, кроме скучного слова «посредственность», сумел сделать такое? Ведь это то, чем собирался заняться Андрей в далёком сорок третьем году: от вопроса, как устроено тело человека, перейти к вопросу, как оно живет и работает.
Первым желанием Андрея после прочтения книги было проверить утверждения Колумба. Но для того нужны вскрытия, а в Испании, под неусыпным надзором инквизиции, нельзя даже коснуться сухого черепа, не навлёкши на себя рокового подозрения.
Но теперь он сумеет удовлетворить своё любопытство, если, конечно, разговор с секретарём не окажется пустой болтовней, неизвестно зачем начатой. Но как бы то ни было шанс упускать нельзя.
Андрей достал баул с хирургическим набором, обтёр с него пыль, раскрыл и начал приводить в порядок потемневшие от долгого неупотребления инструменты.
В Мадриде не нашлось помещения, подходящего для публичных вскрытий. За неимением лучшего выбор пал на аудиторию Католической коллегии. Толпа босоногих монахов перенесла тело из госпиталя францисканцев в Округлый зал коллегии, внешне похожий на анатомический театр Парижского университета, где тридцать лет назад Андрей проводил одно из первых вскрытий.
С испанского дворянина начался его путь в анатомию, испанским дворянином он заканчивается.
Монахи, заполонившие все места, нестройно тянули заупокойные молитвы. Собрались мирские чины: доктора Якоб Оливарес и Григорий Лопец, королевские медики и консультанты пришли впервые в жизни взглянуть на таинства анатомии. Появился молодой герцог де Кордона, ещё несколько придворных. Судья мадридской судебной палаты лиценциат Гудиэль объявил указ о разрешении вскрытия и дал знак Везалию.
Когда Везалий провёл первый разрез, по толпе прошёл стон, монахи закрестились, многие в ужасе воздели руки, прикрывая глаза широкими рукавами ряс. С каждой секундой Везалию становилось яснее, что перед ним разыгрывается заранее задуманный и хорошо поставленный спектакль. Ну и пусть, лишь бы его не остановили, прежде чем он изучит ход сосудов в лёгких.
«Лицемеры! — с холодным отчаянием думал Везалий. — Когда палач затягивает гарроту на шее живого человека, вы не отводите глаз, считая это поучительным зрелищем, а сейчас ваши чувства оскорблены!..»
— Вы видите перед собой мышцы грудной клетки, — сказал он вслух, — из которых первые...
— Домине, — перебил его Лопец, — нам бы хотелось в первую очередь увидеть внутренние органы и особенно сердце, являющееся вместилищем души, как то полагают многие учителя и среди них блистательный Маймонид.
«При чём здесь Маймонид? — подумал Везалий. — Маймонид не писал об анатомии, он гигиенист. Или меня собираются обвинить в склонности к арабским авторам ? Так для этого достаточно взять мои «Парафразы» к Разесу. И, кстати, как этот болван собирается увидеть сердце «прежде всего» ?
Везалий, молча, не давая никаких пояснений, отпрепарировал мышцы и лишь после этого сказал:
— Грудная клетка образована рёбрами, являющимися как бы крепостью для жизненно важных органов.
— Как это поучительно! — воскликнул кто-то из монашествующей братии, судя по виду, учёный проповедник. — Расскажите нам о числе рёбер, коих у мужчин менее, нежели у женщин, ибо из одного ребра господь сотворил Адаму супругу.
— Рёбер и у мужчин и у женщин с каждой стороны по двенадцати, сомневающиеся могут подойти и пересчитать их. Ни грудная кость, ни позвонки не имеют места для прикрепления лишнего ребра, так что мнение, будто мужчины на одной из сторон лишены ребра, совершенно смешно, ведь если Адам, по воле Творца, и страдал подобным изъяном, то это вовсе не значит, что и всё его потомство должно быть кривобоким.
Богослов отступил. Везалий вернулся к столу. Пока он перекусывал и отгибал ребра, монахи возобновили пение.
«Какая знакомая молитва! — мелькнуло в голове у Везалия. — Ну конечно же это обращение к святому Роху, ведь покойного звали Рохелио!»
Много раз в юности слышал Везалий этот унылый речитатив. В Брабанте, неподалеку от Лу-венского университета, где он учился, стояла церковь, носящая имя этого святого. Там, рядом с царством наук, процветало жутковатое суеверие. Случалось, что у добрых католиков появлялся мёртворождённый ребёнок или дитя умирало, не восприяв святого крещения. Тогда единственно заступничество святого Роха могло спасти ангельскую душу от вечного пламени, уготованного некрещёным. Разносилась под сводами заунывная молитва, а специальный служка растирал холодное тельце, стараясь вернуть его к жизни. И вдруг — о чудо! — служитель отступал на шаг, и все видели, как колеблется грудь младенца, а иной раз словно бы слабый плач вырывался из горла. И хотя больше не появлялось никаких признаков жизни, младенца срочно крестили, назвав в честь святого покровителя, и в тот же день хоронили на кладбище позади церкви.
Везалий тряхнул головой, избавляясь от тягостного видения, распрямился и, указав вниз, сказал:
— Перед вами вместилище жизненной силы — сердце.
Его голос прозвучал резким диссонансом, на мгновение прервав нестройную молитву. И тут же в ответ раздался истошный вопль:
— Смотрите! Сердце бьётся!
— Сердце бьётся! Он жив! — подхватило множество возбужденных голосов.
Везалий молниеносно обернулся. Распростёртый на столе Рохелио де Касалья был мёртв как никогда. Дряблое старческое сердце в потеках нездорового жира и не думало биться.
— Он мёртв! — крикнул Везалий.
— Он был жив только что! — ответили ему. — Его зарезали на наших глазах!
— Он мёртв уже два дня! — надрывался Везалий. — Господин Оливарес и вы, домине Лопец, подтвердите мои слова. Вы же видите, что в теле не осталось природной теплоты, да вот трупные пятна, в конце концов!
— Нам известны великие заслуги перед Господом святого заступника Рохелио де Касалья, — скрипучим голосом ответствовал Оливарес, — кроме того, столь великое множество свидетелей не может ошибаться разом. Вероятнее ошибка одного. Что же касается нас, то мы, полагаясь на вашу добросовестность, не осмотрели пациента, прежде чем передать его в ваши руки.
Судья Гудиэль выступил вперед, требуя тишины.
— Андреас Витинг из Везаля! — торжественно начал он. — Я вынужден начать следствие по поводу произошедших событий. В настоящее время нет достаточных оснований для взятия вас под стражу, но предупреждаю, что всякая попытка скрыться из города и королевства равносильна признанию в предумышленном убийстве, растлении нравов и оскорблении божества.
Везалий выронил нож. Он все ещё не мог понять, что же произошло. Двое монахов, завернув в простыни, унесли тело прочь, остальные, сгрудившись у стен, в упор рассматривали Андрея. И никого не интересовало, отчего же на самом деле умер Рохелио де Касалья.
Вскоре Везалий получил послание, подписанное Антонио Пересом — первым государственным секретарём.
«...было признано, — писал министр, — что будет хорошо и удобно, если вы понесёте епитимью за совершённую вами ошибку, епитимья эта будет мягка и умеренна в уважение услуг, оказанных вами его величеству. Для ознакомления с решением по вашему делу вам следует незамедлительно явиться в святой трибунал. Всё это приказано для славы божией и для блага вашей совести».
Везалий перечитывал письмо, не смея верить. Если это не очередная насмешка, то не будет костра, картонной коросы на голове, в руках — свечи зелёного воска, на шее — грубой дроковой верёвки. А на санбенито вместо языков пламени нашьют лишь покаянный Андреевский крест. И, может быть, потом, когда-нибудь, отпустят домой. О большем Везалий не смел думать. Он лишь благодарил судьбу, добросердечную Изабеллу или декрет покойного императора — Андрей не знал, кто или что сохранило ему жизнь.
Епитимья оказалась тайной. Ночью в зале инквизиционного суда, стоя в колеблющемся свете множества свечей, Везалий произнёс отречение от всех вменяемых ему мнений и покаялся в том, что, не имея злого умысла, по неосторожности зарезал капитана Рохелио де Касалья, вскрыв ему живому грудь и обнажив сердце.
Везалий отстоял назначенное число молитв и заказал двенадцать заупокойных месс в двенадцати церквах Мадрида. Последнее требование приговора — чтобы преступник, виновный в анатомических вскрытиях, во искупление греха совершил паломничество к Гробу Господню. Посылать Везалия к папе инквизиторы, не ладившие с римской курией, не посчитали нужным.
Через месяц, оставив Анну с маленькой Марией у родственников, Везалий отправился в Брюссель. В Испанию он твёрдо решил не возвращаться, хотя там всё имущество, из королевства его выпустили нищего, как жителя Сори. Но прежде, чем заново устраивать жизнь, нужно совершить путешествие в Палестину. Открытое непослушание опасно, даже если Испания в ста милях от тебя.
Дорога шла через Париж. Здесь у него уже не было старых знакомых. Везалий задержался во французской столице на один только день, чтобы отыскать на кладбище для бедных могилу королевского консультанта, доктора медицины профессора Якоба Сильвиуса. Даже на собственные похороны автор «Наставления бедным студентам медикам» пожалел денег. Простая известковая плита, никаких украшений. На гладком камне какой-то насмешливый парижанин успел выцарапать эпиграмму:
Сильвиус здесь погребён,
Ничего он не делал бесплатно.
Умер — бесплатно,
И больно ему оттого.
Тот, кто хорошо знал обстоятельства жизни старого профессора, не стал бы укорять его за этот недостаток.
— Прости, учитель, — сказал Везалий, — но я не мог иначе. Теперь, когда ты там, где нет места ложному, ты знаешь это. Знаешь и то, что сам тоже много виноват передо мной.
Ещё из Мадрида Везалий послал письма в Венецию. Одно — Фаллопию, с благодарностью за присланные «Анатомические наблюдения», другое — Тьиеполо, венецианскому посланнику при испанском дворе, через которого Андрей все годы поддерживал связь с остальным миром. Во втором письме он просил ходатайствовать перед сенатом о предоставлении ему какого-либо места.
В Венеции Андрей узнал, что писал уже мёртвым. Случайный порез во время вскрытия лишил жизни неутомимого Габриэля Фаллопия, а Тьиеполо умер ещё раньше, во время вспышки холеры.
И всё же венецианцы не побоялись принять опального медика: испанский король не указчик городу, вольность которого вошла в поговорку. Недаром же папа Павел Третий желчно писал об этих полуитальянцах и полукатоликах: «Они любят самую разнузданную свободу, которая необычайно велика в этом городе». Везалию предложили... освободившуюся кафедру анатомии и хирургии в Падуанском университете!
Дело оставалось за малым — прежде нужно съездить в Иерусалим. Покрытый бесчестием лжец, не сдержавший торжественной клятвы, не может претендовать на уважение учеников.
До Иерусалима Везалий добрался благополучно, но на обратном пути начались неприятности. Корабль попал в бурю, дважды его относило к турецким берегам. Это было не так страшно, хозяина-венецианца охранял от пленения договор, заключённый республикой, но Андрей очень плохо переносил бурное плавание. От непрерывной качки его мутило, желудок отказывался принимать пищу, болела голова. На третий день Везалий окончательно слёг.
Но даже в бреду его не оставляло нетерпеливое ожидание. Скорее! Завтра, а быть может и сегодня, начнётся новая жизнь, вернее, возобновится жизнь старая. Шесть лет он пробыл в аду. «Оставь надежду всяк сюда входящий!» Но сказано и другое: «Нет дороги, непроходимой для доблести». В Падую он возвратится сильнее, чем был, с новыми планами и жаждой работы. Из Иерусалима он везёт не мощи и реликвии, а собрание медицинских рукописей, ждущих перевода с арабского языка.
Ему было очень плохо, но всё же, превозмогая себя, Везалий выбрался на палубу. Пронизывающий ветер гнал по морю пену. Толстобокий купеческий корабль грузно переваливался с волны на волну.
— Скоро ли Италия? — спросил Везалий у корабельщика.
— Какая к дьяволу Италия! — крикнул тот. — Это остров Зант, он под ветром, а на нас идёт шквал. Если мы не удержимся вдали от берега, за наши шкуры я не дам и дырявой греческой драхмы!
С высокой кормы «купца» раздались частые удары колокола.
Смутно, как о чем-то отвлечённом, Везалий подумал, что за свою жизнь так и не научился плавать.
— Сударь! — крикнул капитан. — Ступайте лучше в каюту!
— Ничего, — сказал Везалий. — Invia virtuti nulla est via! (Нет дороги, непроходимой для доблести — лат.)
Рванул ветер. Мощный, с белым гребнем на верхушке вал тяжело ударил в борт корабля...
Везалий так и не вернулся в Италию. Обстоятельства его смерти остались невыясненными.