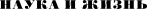Аркадий Стругацкий стоял возле часовни, что напротив Политехнического музея, поставленной в память гренадеров, погибших под Плевной в 1877 году, и посматривал на небо. Небо хмурилось. Было ещё жарко, и солнце светило вроде как ни в чём не бывало, но откуда-то с юга, из Замоскворечья, наползали тяжёлые тёмно-серые тучи. Да, вот как раз туда в переулочек на Новокузнецкой ездили они сегодня утром с Ниной Берковой. И там, в этом угрюмом монументальном здании стояли в просторном вестибюле, напоминавшем холл шикарного нью-йоркского отеля из довоенного фильма, и томились в нетерпении. Противная нервная обстановка — говорить уже ни о чём не хочется и даже читать не получается. Кстати, он никогда не любил читать вот так, в очередях, на ходу, в ожидании кого-то или чего-то. Читать он любил с комфортом, лучше всего дома, лёжа на диване. А там было довольно любопытно наблюдать за людьми, входящими и выходящими. Нет, это не учёные, не строители нового мира, не творцы, не люди Полдня — это клерки, какие-то затравленные, запуганные, задавленные жизнью. Почти никто из них не улыбался. А может, это просто кажется? Потому что настроение поганое.
Казалось бы, такое солидное ведомство — Главатом — ведущий главк огромного министерства, руководящего самой передовой наукой... И что же это за сволочь придумала закинуть сюда на рецензию рукопись их романа? Ах, ну да, Нина же рассказывала, что это внутри Главлита родили кретиническую инструкцию — всю фантастику проводить ещё и через Главатом. И — вот ирония судьбы! — именно их роман первым в СССР угодил в эти жернова. А дальше всё по закону подлости: рукопись попадает к самому патентованному идиоту во всём Главатоме, к товарищу Кондорицкому, который секретных сведений там не обнаруживает, но свидетельствует о “низком литературном уровне произведения”. И всё это было ещё в апреле, а к июню выясняется, что великий критик Кондорицкий ничего не читал (может быть, он вообще читать не умеет?), а читал книгу его помощник — товарищ Калинин, нет, не Михаил Иванович, но тоже, видно, от сохи, и так ему, бедняге, после этого чтения плохо стало, что прямо сразу уехал отдыхать и вот до сих пор не вернулся. Короче, для решающего разговора, на котором настояла Нина, прислали им ещё одного помощника — товарища Ильина, и тот, наконец, вышел в вестибюль. Внутрь-то никого не пускали: режимное учреждение, ядрёна вошь! И вышел, гад, с пустыми руками — сверхсекретное заключение чужим видеть нельзя! — и пересказывал он его по памяти, своими словами, а рожа такая противная-противная... Нина беседовала с ним на правах редактора, а Аркадий стоял скромно в стороночке — на всякий случай — и делал вид, что он тут вообще случайно, так, пописать зашёл.
Разговор получился не просто бессмысленный, разговор получился абсурдный — в духе пьес Беккета или Ионеску. И зачем ездили, спрашивается? Зачем в душном троллейбусе парились туда и обратно ? Однако Нинка — боец настоящий, она к тому моменту окончательно озверела, преисполнилась решимости, и он уже видел, уже понимал, что теперь её никто не остановит.
Вернулись в издательство — и точно, она прямиком к главному, к Компаниецу, и дожала Василия Георгиевича вмиг, тот сам главлитовскому начальству позвонил и всё решил положительно. Невероятно! Тогда они схватили рукопись и бегом. Буквально бегом — в переход и через площадь, мимо Политеха, и через улицу... Суббота же — рабочий день может кончиться, и тогда — всё!.. В понедельник они обязательно что-то новое придумают — потребуют визу министерства хлебопродуктов или управления речного транспорта. Поэтому бегом, бегом — сегодня наш день! А возле памятника героям Плевны Нина вдруг остановилась и сказала:
— Слушай, давай я одна туда пойду. В этой гнилой конторе повсюду глаза и уши, мало ли что...
— Нинка, ты что? — удивился Аркадий. — А, впрочем, как скажешь... — он вдруг понял, что она просто боится сглазить.
Главлит — это, конечно, подразделение КГБ. Не стоит одним своим появлением дразнить гусей.
И вот теперь он стоял и ждал Ниночку Матвеевну. На часы специально не смотрел. Уж больно долго всё это тянулось. Ну что, что они там делают? Ведь всё решено. Осталось поставить штамп, закорючку в углу штампа, визу внизу, круглую печать сверху — и на выход. Где же она, чёрт возьми?
И тут появилась Нина. Практически одновременно хлынул дождь, сразу настоящий летний ливень, как будто наверху одним размашистым движением отодвинули гигантскую заслонку.
Нина бежала теперь не потому, что боялась опоздать, а потому, что у неё зонтика не было, а надо было спасать бесценную подписанную рукопись от дождя. Он кинулся навстречу, поймал, обхватил, она была такая маленькая и легкая, оторвал от земли и стал кружить под дождём. А Нина стучала кулачками ему в грудь и говорила сквозь смех:
— Арк, ты с ума сошёл, отпусти, люди смотрят!
Но люди просто разбегались, прячась от дождя, а смотрели на них только эти двое с одинаковыми зонтами. И тогда Аркадий поставил Нину на асфальт, выхватил у неё папку с рукописью, мигом обернул главную ценность снятой с себя лёгкой курточкой, и они побежали рядом, не разбирая дороги, по лужам, смеясь и подпрыгивая. Как дети. И напротив Музея истории Москвы обогнали девчонку, которая шлёпала по лужам босиком в уже промокшем насквозь белом платье, подставляя лицо дождю и размахивая изящными белыми туфельками. А рядом ехал парень на велосипеде, медленно-медленно, с трудом удерживая равновесие на такой малой скорости, и оба совершенно никуда не спешили под тёплым июньским дождём.
Когда человеку хорошо, это сразу видно. Такого человека нельзя не заметить.
Едва оказавшись в Малом Черкасском, Аркадий и Нина, не сговариваясь, свернули не в издательство, а в маленькое кафе напротив. Сотрудники частенько сюда захаживали выпить чаю с бутербродом или свежей булочкой.
Аркадий сел, аккуратно развернул папку, положил на стол. Курточку повесил на спинку стула и, страшно довольный собою, потянулся, потом неторопливо скрестил руки на груди.
— Мы успеваем? — спросил он. — Они сегодня подпишут в печать?
— Конечно, — умиротворённо улыбнулась Нина, — до конца работы ещё больше двух часов.
Они сидели вдвоём в маленьком пустом кафе, дождь хлестал в стёкла, шампанское с капелькой коньяка шипело в бокалах, и жизнь была прекрасна. Они победили. Все враги остались где-то там, далеко-далеко в прошлом, а они уже здесь — в мире Полдня.
Было 9 июня 1962 года, суббота. Именно этим днём подписано в печать первое издание романа Аркадия и Бориса Стругацких — АБС — “Возвращение” с подзаголовком “Полдень, 22-й век”. В те годы в СССР суббота ещё оставалась рабочим днём. Но мы же с вами знаем: понедельник начинается в субботу!
Быть может, это был самый счастливый год в жизни Стругацких.
Единственный, первый и последний, в течение которого вышли в свет три новые книги (да ещё какие!): завершившие свою эпоху “Стажёры”, “Полдень...” — символ отечественной фантастики на долгие годы и, наконец, открывшая собой новую эру, по-настоящему революционная “Попытка к бегству”.
Несколько слов о повести “Стажёры”. Мы называем её завершением цикла произведений о ближайшем будущем. Хотя формально о том же двадцать первом веке и с тем же героем Иваном Жилиным появится ещё одна повесть — “Хищные вещи века”. Исследователи творчества АБС вычислят потом и точный год событий “ХВВ” — 2019-й, и пробросят мостики из двадцать первого века в двадцать второй, выстраивая единую “историю будущего”, доказывая, что АБС создали цельную картину мира, в котором работали от начала и до конца. Но сами-то авторы никогда не придавали значения таким мелочам, поэтому хронология, генеалогия и даже география в их книгах содержат массу внутренних противоречий. Несомненно одно: были ранние повести и рассказы о ближайшем будущем, на которое авторы давали прогнозы, вполне серьёзно, в духе того времени и в традициях той фантастики — планируя не угадать, а просчитать, вычислить, логически предсказать научные и социальные достижения. И все эти расчёты оказались предельно далеки от реального хода событий, что стало очевидно ещё при жизни АНа, не говоря уже о сегодняшнем взгляде из наступившего нового тысячелетия. Так вот, подобная фантастика закончилась для АБС именно на “Стажёрах”. “Хищные вещи” уже никакого отношения к прогностике не имели.
Может быть, именно поэтому как раз в них Стругацким удалось в 1964 году с невероятной точностью описать реалии нашей сегодняшней жизни.
Но мы сейчас о другом. Интуитивно чувствуя бесперспективность традиционной научной фантастики, авторы уже тогда, подстёгнутые Ефремовым, начинают писать о более далёком будущем, которое по определению не доведётся застать не только им самим, но и детям их. Так возникает мир Полдня — идеальный полигон для социологических экспериментов, но уже без всяких попыток угадать, в каком конкретно году мы покорим сверхсветовые скорости, а в каком повстречаем братьев по разуму. Совершенно иной подход.
И обе эти книги выходят одновременно. И пока ещё воспринимаются как части единого целого
— в них даже мелькают единые реалии — тот же Марс с его летающими пиявками. Глубинный смысл того, что заявлено в “Возвращении”, станет понятен читателю лишь с выходом следующей повести — “Попытки к бегству”.
Но есть одно качество, объединяющее все эти три вещи. Всякая настоящая литература — пишется она о прошлом или будущем — становится зеркалом своего времени. И в тех книгах дышал и пульсировал Советский Союз эпохи оттепели — страна, сбросившая оковы сталинизма, бурно развивающаяся, рвущаяся к свободе, открывшаяся в большой мир. А что касается “Стажёров”, на мой взгляд, повесть стала одним из самых ярких и масштабных, панорамных портретов эпохи, вместивших в себя не меньше точных деталей и ярких образов, чем выходившие тогда же популярные повести Аксёнова, Искандера, Гладилина, Садовникова, Жуховицкого...
И, наконец, “Попытка к бегству”. Она была и остаётся одной из моих самых любимых книг. Наизусть я её не учил, но перечитывал многократно, вновь и вновь удивляясь тому, что очарование первого знакомства не тускнеет, а даже наоборот — с годами я всякий раз обнаруживал для себя что-то новое. И порою мне хотелось чисто по-чеховски своей рукою переписать “Попытку..”, чтобы понять, как же она сделана, чёрт возьми! Антон Павлович с этой целью собственноручно переписал “Тамань”. Остановило меня, должно быть, лишь то, что Стругацкие не писали своих вещей руками, а “собственномашинно” перепечатывать текст, да ещё в одиночку, без соавтора явно было бессмысленно.
Магия этой повести так и осталась для меня неразгаданной. Да, я прекрасно понимал, что АБС, выражаясь языком их персонажа Саула, сумели в этой повести “выйти из плоскости своих представлений”. Да, я понимал, что это первое в нашей литературе столь глубокое произведение о столкновении прошлого, настоящего и будущего. Подсознательно догадывался, что лагерь и здесь и там — наш, советский, а Гитлер и рабовладельцы — так, для цензуры. Да, я чувствовал, насколько остро, насколько универсально на все времена поставлены здесь моральные проблемы. Чувствовал, что именно в “Попытке...”, а не в “Возвращении” впервые так ярко, выпукло и завершённо показана картина того самого вожделенного мира Полдня. Наконец, уже много-много позже, прочитав у БНа в “Комментариях...”, как они придумали концовку, в которой можно ничего не объяснять, и как сладостно это было для авторов, я ахнул: “Вот в чём секрет! Вот почему и читателю так сладостно!” (Хотя поначалу обескураживало.) Но и это был не весь секрет. Не скажу, что сегодня я докопался до самого дна. Никакого дна не существует в принципе, то есть любые объяснения подобных чудес тянут лишь на частичную разгадку. Оно и понятно, всё строго по Пастернаку: “И прелести твоей секрет разгадке жизни равносилен”. Но всё-таки поделюсь своим последним открытием, сделанным уже в процессе работы над этой книгой.
Несколько человек, шестидесятников, знатоков литературы, притом нефантастов (не хочу называть фамилий — здесь важны не авторитеты, а общность мысли) признались мне, формулируя почти моими словами: да, именно Стругацким лучше, чем всем прозаикам-реалистам, удалось в своих повестях якобы о далёком будущем отразить живую жизнь оттепельного времени.
И тут словно занавес раскрылся: я вспомнил, какие образы стояли перед глазами во время чтения “Попытки...” — фильм Геннадия Шпаликова и Георгия Данелии “Я шагаю по Москве”. И там и там одинаковое ощущение яркого и нежного утреннего солнца, ощущение здоровья, молодости, счастья и беспредельной, необъяснимой и непререкаемой веры... нет, не веры, а уверенности в завтрашнем дне.
Сравните два текста. Не лишним будет и вспомнить кадры знаменитого фильма.
Геннадий Шпаликов:
“— Не читай во время еды — вредно, — сказала Колькина сестра, поставив на стол кипящий чайник.
Колька сидел за столом в одних трусах, ел, уткнувшись в газету. Он даже не поднял глаза. Тогда сестра выхватила у него газету и ушла в другую комнату.
Урок английского языка, записанный на пластинку, гремел над переулком. Колька зевнул и встал.
— Эй! — Он высунулся в окно. — Сними пластинку!
Парень вышел из кафе. Он не понимал, чего от него хочет Колька.
— Пластинку сними!
Парень кивнул, понял, значит. Пошёл, снял.
— Мне спать надо — мешает! — крикнул Колька. — Ты что, потише не можешь пустить?
— Если тихо, до меня не доходит. Отвлекаюсь, — объяснил парень.
— А ты не отвлекайся, — сказал Колька и заметил... ...Володю, идущего обратно по переулку с чемоданом в руке”.
Братья Стругацкие:
“Вадим ел, листая книжку, и с удовольствием поглядывал на хорошенькую дикторшу, рассказывавшую что-то о боях критиков по поводу эмоциолизма. Дикторша была новая, и она нравилась Вадиму уже целую неделю.
— Эмоциолизм! — со вздохом сказал Вадим и откусил от бутерброда с козьим сыром. — Милая девочка, ведь это слово отвратительно даже фонетически.<...>
Вадим встал и с бутербродом в руке подошёл к распахнутой стене.
— Дядя Саша, — позвал он, — вам ничего не слышится в слове “эмоциолизм”?
Сосед, заложив руки за спину, стоял перед развороченным вертолётом. “Колибри” трясся, как дерево под ветром.
— Что? — сказал дядя Саша, не оборачиваясь.
— Слово “эмоциолизм”,— повторил Вадим. — Я уверен, что в нём слышится похоронный звон, видится нарядное здание крематория, чувствуется запах увядших цветов.
— Ты всегда был тактичным мальчиком, Вадим, — сказал старик со вздохом. — А слово действительно скверное.
— Совершенно безграмотное, — подтвердил Вадим, жуя. — Я рад, что вы это тоже чувствуете... Послушайте, а где ваш скальпель?
— Я уронил его внутрь, — сказал дядя Саша.
Некоторое время Вадим разглядывал мучительно трепещущий вертолёт.
— Вы знаете, что вы сделали, дядя Саша? — сказал он. — Вы замкнули скальпелем дигестальную систему. Я сейчас свяжусь с Антоном, пусть он привезёт вам другой скальпель.
— А этот?
Вадим с грустной улыбкой махнул рукой.
— Смотрите, — сказал он, показывая остаток бутерброда.— Видите? — Он положил бутерброд в рот, прожевал и проглотил.
— Ну? — с интересом спросил дядя Саша.
— Такова в наглядных образах судьба вашего инструмента”.
Единая стилистика. Абсолютно. Стругацкие не могли ни смотреть, ни читать сценария — они своё написали раньше. Шпаликов теоретически мог, у него было на это несколько месяцев, но практически — никаких даже намёков на интерес к фантастике или общих близких друзей — откуда?
Вывод один: просто эти картины написаны обе с одной натуры равно талантливыми людьми. Пожалуй, именно наше кино, а не проза, именно наш “советский неореализм” и приближался по силе и точности отражения эпохи к тем лучшим образцам, которых достигли тогда АБС.
У нас ведь было потрясающее кино, замеченное и оценённое, кстати, во всём мире. Не менее ярким символом эпохи, причём на два года раньше, именно в том самом 62-м стал другой фильм по сценарию Шпаликова — снятая Марленом Хуциевым лента “Застава Ильича”, в прокате получившая название “Мне двадцать лет”. Он был слишком хорош для этого мира и без видимых объяснений наткнулся на яростное сопротивление чиновников от искусства. Он не вышел на экраны в 62-м, только в 63-м.
В эти же годы взошла звезда Андрея Тарковского: он закончил свой первый полнометражный фильм “Иваново детство”, пожалуй, самый счастливый в судьбе великого режиссёра. У фильма была отличная пресса, великолепные сборы и полтора десятка наград из самых разных стран мира. Наиболее престижную — “Золотого льва Святого Марка”, Гран-при в Венеции — он получил сразу, в том же году. Конечно, собратья по цеху не могли не заметить такого явления. Вот только подчеркнём ещё раз: общий уровень нашего кино был столь невероятно высок, что не все поняли тогда, кто перед ними. Оценили — да, выдвинули, наградили — да. Но в своей компании сказали привычное, модное тогда: “Старик, ты гений!” То есть приняли в “сообщество гениев”, не осознавая ещё, что он, Тарковский, уже не с ними, он — уже далеко впереди...
Всё было почти как с АБС. Заметили по первым публикациям, а смирились с их лидерством лишь в 62-м. Тарковскому оставалось ещё четыре года и ещё один фильм, прежде чем он окончательно ушёл в отрыв — после “Андрея Рублёва”. И далеко не случайно эти судьбы пересеклись. Они должны были пересечься. Таланты могут друг друга не заметить — их много, гении обречены на то или иное общение — их слишком мало. Ещё одним таким же гением был Высоцкий. И о нём и об Андрее Арсеньевиче отдельный разговор впереди.
А какие были выставки, какие спектакли в театрах, какая музыка, какие исполнители, какие, чёрт возьми, иностранцы начали приезжать к нам в те годы! Один Вэн Клайберн чего стоил, которого упорно называли как-то по-китайски — Ван — и фамилию читали по буквам — Клиберн, но знала его вся страна не хуже, чем своих: Рихтера или Гилельса. Впрочем, музыкальная тема слишком далека от нас, и мы не станем в неё углубляться, просто хотелось напомнить, что это было прекрасное время для всех искусств.
Как хороши были в те годы даже простенькие комедийные картины: “Три плюс два”, “Деловые люди”, “Гусарская баллада”! Даже ранний Илья Глазунов, ставший потом безнадёжно конъюнктурным и масскультурным, был тогда очень, очень неплох. Вспомним ту его дивную картину: утро, девушка, раскрытое окно на Невский... Или его жуткий в своей правдивости блокадный цикл, или Петербург Достоевского — это Искусство с большой буквы...
Вернёмся к началу года. Даже ещё чуть раньше — к поздравлениям с Новым годом. Запись в дневнике АНа 31 декабря 1961-го:
“Получил поздравления от гослитовцев и от Майки Глумовой”.
Нет, не из будущего — так звали его одноклассницу из ленинградской школы на Выборгской, они дружили и переписывались много лет.
1 января они в гостях у художника Георгия Макарова — иллюстратора “Возвращения” и вообще постоянного детгизовского иллюстратора.
8 февраля АН подробно расписывает движение всех изданий: “Возвращение” — сверка и третья читка; “Стажёры” — рукопись в главную редакцию; “Должен жить” (глава “Стажёров”) — альманах в производство; “В стране водяных” — вёрстка. Дальше перечисляются рассказы в журналах и публикации за рубежом. И, наконец, мы узнаём, что закончен перевод “61 Лебедя”, которому требуется ещё литературная обработка. Боже, где этот перевод, который так и не напечатали?! А ведь тут же записано, что он ещё переводит некую “Пену” — из японской фантастики, опять на свой страх и риск...
А потом уже не о работе.
“Слушали Окуджаву — понравилось. “Бумажный солдат”, “Последний троллейбус” — отлично.
Дома все здоровы. Коклюш у детей прошёл. Ленка собирается в “Интурист” и в безопасность (это так ласково именуется КГБ. — А.С.), с 10-го идёт на первые занятия. Дай ей бог спокойствия духа, а то я прямо работать спокойно не могу. Жалко и смешно, и злюсь, и люблю”.
Тут речь идёт о том, что Елена Ильинична несколько раз меняла работу, были у неё проблемы и в Воениздате, и в “словарном” издательстве, наконец, предложили интересную и престижную работу — экскурсоводом у иностранцев с английским языком. Но она и полгода не протянула: пока надо было просто “стучать”, чему учили на первых же занятиях, она ещё терпела, но когда в июле отправили с американками в Сочи и поручили обыскивать сумочки, Елена Ильинична не выдержала и, вернувшись в Москву, подала заявление об уходе. В “безопасности” таких строптивых не очень любили, но серьёзных санкций к дочке профессора-китаиста Ошанина применять не стали.
Вот на таком фоне идёт активная переписка братьев и разработка их новых сюжетов. АН собирается взять отпуск и ехать в Ленинград, но они ещё не знают, что будут писать. Мелькают рабочие названия: “Звездочёты” — смутно прослеживаются идеи “Понедельника...”; “Родился в 2017 году” — она же так никогда и не написанная “Повесть о Горбовском” (первой главой к этой повести становится рассказ “Дорожный знак”, превратившийся в пролог к “Трудно быть богом”); наконец — “Возлюби дальнего”, переименованная в дальнейшем в “Попытку к бегству”.
А ещё 1 февраля АН пишет БНу:
“...Ты уж извини, но я вставил < в детгизовский план 1964 года > “Седьмое небо”, повесть о нашем соглядатае на чужой феодальной планете...”
Похоже, это первое упоминание о “Трудно быть богом”.
С 16 февраля по 16 марта (рекордная длительность непрерывной работы вместе! — “Устали ужасно. Отрастили усы”) — после долгих мучений над сюжетом и композицией повесть “Возлюби дальнего” взята штурмом и обретает парадоксальную концовку. Тогда же сделан и “Дорожный знак”.
Из отпуска АНу приходится вернуться на день раньше, так как Наталья Исаевна Фельдман обязывает его быть 17 марта на вечере Акутагавы в Доме дружбы с народами зарубежных стран, где председательствовал сам академик Николай Иосифович Конрад. АН читает по рукописи отрывки из повести “В стране водяных”. А книжка выйдет только к концу ноября, чудесная, с необычайным вкусом оформленная книжным графиком Дмитрием Бисти (позднее он же проиллюстрирует большой том Акутагавы в “Библиотеке всемирной литературы”) и с хорошим предисловием совсем юного Виктора Сановича. Вообще, многие японисты считают, что это лучший из переводов Аркадия Стругацкого. Может быть, потому, что это была первая для него японская фантастика. А может быть, потому, что работал он над ним с 1958 года, начав не для денег, не под заказ, а для себя, для тренировки — рискнул, уж больно книга понравилась!
Публика в восторге от чтения отрывков. Тогда вообще многие были в восторге друг от друга и шелестело повсюду в творческой среде: “Старик, ты гений! Старик, ты гений!”
Для фантастов это тем более естественно. Они же были в буквальном смысле не от мира сего. Они придумывали другие миры и жили в них. Они писали о людях (и не только о людях) с других планет и о людях будущего, ставших почти богами. Им легче почувствовать, представить себя именно такими: богами среди простых смертных. Представить — легко. Трудно быть богом. Именно в 62-м они впервые поймут это со всей остротой. Но только через год случайная (или не случайная?) фраза станет названием книги.
8 апреля мама, познакомившись с рукописью “Попытки...”, наводит суровую критику (её письмо, к сожалению, не сохранилось). Слишком непривычно и для неё тоже. АН отвечает письмом, которое можно назвать программным:
“Дорогая мамочка!
<... >Раскритиковала ты нас здорово. Однако, при всём моём к тебе уважении, должен сказать, что не везде и не во всём справедливо. Понимаешь, если исходить из задачи “звать молодёжь” или “направлять молодёжь”, то не только эта — ни одна из наших работ ни к чёрту не годится. Задача же у нас другая совсем. Мы хотим заставить молодёжь шевелить мозгами, понимаешь? Заставить её задуматься над иными проблемами, кроме “где схватить девочку” и “у кого перехватить пятерку до получки на выпивку”. Нам представляется, что это задача не менее — а может быть, и более — благородная, чем “звательная” и “направлятельная”. Звали нас и направляли всю жизнь, а толку не видно, потому что мыслят люди слишком прямолинейно: либо вперёд, либо назад. Вперёд — там сияющие дали, однако же вполне конкретные колдобины на дорогах, а назад — стыдно, конечно, но выпить можно и с девками побаловаться. Мы должны заставить людей думать глубже, мыслить шире, воспитывать отвращение к грязи и невежеству, особенно к невежеству. <...>
Твой любящий недостойный Арк.”
А всем друзьям новая повесть, наоборот, нравится, только её почему-то никуда не берут, и, как всегда в таких случаях, АН несёт рукопись в “Знание — сила”, тем более, что там главный редактор Мезенцев в отпуске. Начинаются поправки и замечания. Чем-то не устраивает имя Саул — его меняют на Якова. А название вообще оказывается цитатой из Ницше, и надо придумывать другое. Но задержка происходит из-за иллюстраций, которые АН просит сделать Макарова, а Макаров как раз разводится с женой и ему не до того. Кирилл Андреев пишет рецензию, от которой никому не легче.
21 апреля, в день рождения дочек — обеих (так и записано, хотя Наташа родилась 20, а Маша 30 апреля), АН беспокоится о рассказе на конкурс журнала “Техника — молодёжи”. Сегодня даже подумать смешно: без пяти минут классики переживают, чем бы им удивить молодёжь! Предлагаются две идеи:
“1. “Её тайна” — о девочке и юноше и ноль-транспортировке. (Не первое ли это упоминание термина? — А.С.)
2. “Обратный” — о человеке, движущемся в обратном направлении во времени”. (Не Янус ли это Полуэктович? — А.С.)
Рассказов таких, насколько мы знаем, они не написали.
“7-го мая у Жемайтиса и Клюевой — организационное собрание молодых фантастов.
Андреев рассказывал, что Захарченко и Казанцев до скандала противились. Я попал в оргкомитет. Там нас пятеро: Днепров, Громова, Анфилов, Полещук и я”.
Вот тут короткого комментария будет явно недостаточно, и мы оставим эту тему на конец нашей главы, а пока вернёмся к хронологии личных, творческих и околотворческих событий.
В конце мая братья встречаются в Ленинграде и основательно переделывают “Возлюби дальнего” в ту “Попытку к бегству”, которая всем известна. Правда, публикация в “Знание — сила” всё откладывается, зато уже ясно, что повесть пойдёт в сборник — первый настоящий ежегодник без специального названия — просто “Фантастика-62”.
Тогда же они обсуждают возникшую раньше и уже мелькнувшую в письмах идею сверхопыта, сверхинстинкта гигантского спрута Кракена, превращающего людей в моральных чудовищ. БНа не слишком увлекает замысел, он предлагает делать некий “День волшебника” (очередное название для “Понедельника”?). Однако АН, всё лето работая над переводом “Пионового фонаря”, одновременно продумывает “Дни Кракена” — повесть, которая так и не была написана до конца. А жаль. “Сугубый реализм” первых глав, написанных АНом, который казался так скучен БНу тогда и который в итоге стал неодолимым препятствием для продолжения повести в этом ключе, по-моему, этот реализм — ещё одно доказательство жгучего желания запечатлеть, сохранить для потомков лучшие, счастливые годы своей жизни. АН упорно возвращается к “Кракену” вновь и вновь, пока БН не забраковывает идею окончательно, и тогда “Кракен” в его фантастической части будет безжалостно растащен на кусочки по разным повестям. А реалистическая половина книги ляжет в архив навсегда, точнее, до публикации в полном собрании. Но как же много в ней вкусных подробностей московской издательской жизни и московского быта конца 50-х — начала 60-х, как изумительно описана работа переводчика с японского!
На самом-то деле повесть сгубил не реализм, а отсутствие сюжета. АН видит, о чем она, о ком, для кого, но вот что там будет происходить? В июне он запишет:
“Как создать коллизию? Нужны ситуации, в которые можно вложить всю ненависть к дуракам, к наступающему мещанству, к ограниченности”.
Как это напоминает “Хищные вещи века”, а ведь до них — до зарождения самой идеи — ещё больше года!
А уже зимой, когда вовсю пишется “Далекая Радуга”, отношение сформулируется точнее:
“...Мы выработали концепцию Кракена — фактор омещанивания, элемент, в присутствии которого люди становятся животными. Показать непосредственную связь — мещанство — культ личности”.
И тут же абзацем ниже:
“...Я открыл противоречие между нами, которое в последнее время движет нашу работу: меня тянет к внешнему описанию событий, а Борьку — к поискам содержания и сюжета”.
Потом многое изменилось, но тогда это всё так и было. Однако БН не захотел искать сюжет.
Когда читаешь дневник АНа, больше всего поражаешься, как он всё успевал: редактировать, переводить, продумывать, сочинять, записывать, притом, что кроме дневника, писем и двух основных работ была ещё масса мелочей в виде статей и выступлений, постоянные призывы на военную учёбу, бытовые проблемы, регулярные выпивки в самых разных компаниях, наконец, чтение книг и просмотр фильмов... По часам это расписано не всегда, но даже перечисление по дням сражает наповал.
“19 июня. <...>Взяли меня было в армию — с отправкой на ст. Смоляниново (между Владивостоком и Находкой), да обошлось: по счастью, я б/п (беспартийный. — А.С.)”.
“31 июля (вторник). 27 июля получился сигнал “Возвращения”. <...>Со вчерашнего дня я, раб божий, перестал пить и курить. Очень скверно чувствовал себя. Сейчас несколько лучше. Прервусь на два-три месяца с курением. Воздержусь от водки и коньяка. А там видно будет”.
“9 августа (четверг). Надо ехать в Каширу за детьми (это они жили на даче у Шилейко. — А.С.) — тоже удовольствие на все катушки. Господи, ничего так не хочу — оставьте меня в покое! Так надоело всё. Пожить бы совершенно одному хотя бы месяц! Ну ничего. Надо держаться”.
“18 августа было т.н. совещание на международном уровне. Единственная приятная шутка на этом совещании — приезд Бориса. <...>Совещание выглядело до предела глупо. Захарченко окончательно обнажился как дурак и демагог. Зато заметно сконцентрировались молодые. Мы все сидели в одном ряду: Женя Лукодьянов (Войскунский, разумеется. —А.С.) (Исая не было), Джереми Парнов, мы с Борькой, ленинградец Варшавский. Днепров сидел сначала в стороне, но затем стоны
и вопли Сытина и Немцова бросили его в наши объятья. И Ариадна Громова была с нами. Кто же против нас? Враги поджали хвосты и только хныкали”.
Это было первое такое масштабное Всесоюзное совещание писателей и критиков, работающих в жанре НФ. Второе и последнее провели только в 1976-м, что весьма наглядно иллюстрирует отношение властей к фантастике. В 62-м совещание проходило под эгидой секретариата ССП в ЦДЛ. Примечательно оно тем, что многие интересные и полезные друг другу люди впервые там познакомились, а к тому же по завершении все отправились в Дом кино смотреть знаменитый фильм Стэнли Крамера “На последнем берегу” — о конце света после ядерной войны. Широкой публике его не показывали, только хорошо подготовленным фантастам. Фильм навёл АБС на идею “Далекой Радуги”.
22 сентября АН достаточно внезапно срывается в командировку в Западный Казахстан (Актюбинск, Уральск, Гурьев — между городами километров по 400 — 500) с группой поэтов от “МГ” по инициативе Белы Клюевой. Он всегда легко и охотно соглашался на такие поездки, даже когда был уже не слишком молод и не очень здоров, а тогда это едва ли не впервые, и поехали они с огромным энтузиазмом. Вдобавок ностальгия по тем местам, где был... нет, счастлив не был — просто оказался во время войны. Удивительно, как совершенно случайная поездка занесла его именно в Актюбинск. АН тогда, быть может, впервые почувствовал, что такое слава: в далёком захолустье школьники, дети рабочих с нефтеперегонного завода на Каспии читали его книги и задавали умные вопросы. Они хотели думать, и это было прекрасно.
Почти без паузы, с 3 по 5 октября, он отправляется в Горький, теперь уже вместе с женой по приглашению Юрия Борисовича Беспалова. Там особенно запомнилась инсценировка “Смерть планетчиков”, сделанная к их приезду молодыми актёрами под руководством Беспалова — тогда режиссёра молодёжной редакции местного телевидения. А сегодня его — заслуженного деятеля искусств и члена академии “Ника” — называют легендой советского телевидения.
Жизнь полна поразительных совпадений! Через десять лет к Юрию Борисовичу придёт студент исторического факультета Горьковского университета Саша Со куров и станет его любимым учеником. Получив диплом, он пойдёт работать на горьковскую студию телевидения режиссёром документальных фильмов. А ещё через десять лет будущий всемирно известный кинорежиссёр возьмётся за экранизацию повести АБС “За миллиард лет до конца света”.
В 62-м одиннадцатилетний Саша учится в школе в польском городе Легнице, там служит его отец-военный. Вскоре они всей семьёй переедут в туркменский Красноводск, где и будет в итоге снят фильм “Дни затмения” по Стругацким...
АН ещё раз приедет на горьковское телевидение в 1983 году — принять участие в документальном фильме “Тайна всех тайн”. Было бы очень интересно узнать, встречался ли он тогда с Беспаловым и зашёл ли у них разговор о Сокурове, ведь работа над сценарием уже шла...
“23 ноября. Сегодня ровно неделя, как я в Ленинграде. <...>Приезжал Лем. Выступил по радио. Сказал, что больше всех в СССР из фантастов ценит Стругацких и Ефремова. Очень лестно”.
В Ленинграде будет установлен новый рекорд по длительности их совместной работы — больше месяца, до 26 декабря. Они сделают “Радугу”, которую АН в дневнике обзовёт “Дальней Радугой” и “последней повестью о далёком коммунизме”.
Они и в самом деле так думали. Им становилось уже неинтересно писать об этом благополучном будущем. Серьёзный поворот в мыслях намечался.
Последнюю запись года в дневнике АН завершит рассказом о замечательных ленинградских фантастах, с которыми общался: об Илье Варшавском, Владлене Травинском, Юрии Коптеве и его жене Рите, Владимире Дмитревском, Дмитрии Брускине.
Вообще, одна из важных чёрточек 62-го года — невероятно расширившийся круг знакомств, особенно у АНа: издательства, редакции журналов, компании, собиравшиеся у старых друзей, наконец, ЦДЛ, куда он начал захаживать регулярно, даже безотносительно к мероприятиям. АН охотно общался со всеми представителями тогдашней молодой литературы: Василием Аксёновым, Анатолием Гладилиным, Георгием Садовниковым, Владимиром Войновичем, Георгием Владимовым, Фазилем Искандером, Аркадием Аркановым, Григорием Гориным, Евгением Евтушенко, Андреем Вознесенским, Леонидом Жуховицким, Георгием Семёновым, Юрием Казаковым...
Очень разные писатели из очень разных компаний, но удивительно то, что почти все они, за исключением, может быть, трёх последних, в том или ином виде тоже писали фантастику, не научную, конечно, однако въедливые специалисты включили их впоследствии во всевозможные библиографии именно фантастики. Притом заметим, что все вышеперечисленные решительно не хотели не только признавать себя фантастами, но и называть фантастическими свои сатирические, фантасмагорические, сказочные, сюрреалистические и прочие, и прочие нетрадиционные творения. Фантастика как была, так и оставалась для них чем-то далёким, чужим и... к сожалению, чем-то второсортным. Существовало навязанное сверху и глубоко укоренившееся представление о фантастике как о низком жанре. А многие, очень многие (в дневниках и письмах даже сами АБС — для краткости и простоты) так и говорили и по сей день говорят — “жанр фантастики”, что совершенно безграмотно с точки зрения филологической науки. Искусственное деление на жанры очень мешало АБС да и всем прочим талантливым фантастам получить нормальное литературное признание. Фантастов не печатали толстые журналы, фантастов не замечала высоколобая литературная критика, их не рассматривали как равноправных членов писательского сообщества, даже вступление в Союз писателей было для них куда труднее, чем для обычных прозаиков.
В этой непростой обстановке фантасты вынуждены были объединяться сами, как умели, и занимать круговую оборону. Самым первым центром такого объединения стали так называемые семинары, или посиделки, в редакции Сергея Жемайтиса в “МГ”, где ещё в 1959-м спонтанно организуется нечто вроде литобъединения. Никто не помнит точной даты первого семинара, да и не было такого. По-видимому, просто Сергей Георгиевич и Бела Григорьевна видели, как фантасты, встречаясь у них в редакции совершенно случайно, иногда по трое, по четверо и попивая чаёк за шкафом в закутке для неформального общения, тянутся друг к другу, узнают друг друга без слов, словно телепаты, и начинают говорить на своём, совершенно особенном языке. Идея встречаться специально посетила нескольких человек одновременно, никто не претендовал на авторство.
Но регулярно они начнут собираться только через пару лет. Посиделки, как их ласково станет называть Клюева, будут худо-бедно формализованы, то есть одобрены начальством и даже ввиду уже изрядного стечения публики переведены из тесной редакции в небольшой конференц-зал. Люди собирались читать друг другу новые рассказы, обсуждать уже вышедшие, говорить о тенденциях в фантастике, советоваться, где и как лучше издаваться. Для редакции — кузница авторских кадров, для опытных писателей — возможность обменяться мнениями и получить оценку “по гамбургскому счету”, а для молодых, начинающих — действительно семинар, хотя не столько школа ремесла (разве этому научишь?), сколько школа жизни, ну и, конечно, возможность пробиться в печать. С годами последнее стало сильно преобладать, романтиков становилось всё меньше, прагматиков всё больше.
Вообще, круг творческой интеллигенции начала 60-х, с одной стороны, был весьма узок, все знали всех через второго человека — уж наверняка. Да и места для встречи можно по пальцам пересчитать, а с другой стороны, сообщество легендарных шестидесятников дробилось всё-таки на несколько весьма закрытых компаний, не пересекавшихся никак. Вот и получалось, что люди, которым сам Бог велел познакомиться и подружиться, ходили друг мимо друга годами и многие великие надежды и возможности отодвигались на неопределённое время.
Ну а теперь немного о политике.
Помнится, БН убеждал меня, что их творчество развивалось и выстраивалось под влиянием событий, в первую очередь социально-политических. Да, безусловно. Куда ж от них деться-то в нашей стране? Но думаю, что теперь и читателю ясно, что влияли эти события опосредованно — через обстоятельства, если не лично-семейные, то уж, во всяком случае, профессиональные: условия, возможности, стимулы для работы, частота и оперативность публикаций.
А ведь год 62-й был весьма, весьма не простым.
1 декабря система показала зубы. Случился знаменитый приход Никиты Сергеевича “со товарищи” на выставку “Новая реальность” в Манеже. Товарищи у него были замечательные — Суслов и Козлов. Особенно Суслов так грамотно науськивал Самого на абстракционистов и формалистов, что Хрущёв, расстроенный всеми политическими кризисами года, не стал церемонничать и выдал свою историческую фразу: “Я как Председатель Совета Министров заявляю, что советскому народу всё это не нужно”. У Лавра Федотовича Вунюкова из “Сказки о Тройке” должность поскромнее, но говорить он будет именно этими словами.
Декабрьский разгром в Манеже принято считать первым звоночком, сигнальной ракетой для притаившихся идеологических реваншистов всех мастей. А они и впрямь как с цепи сорвались. Тут же. Хрущёв сам уже не смог остановиться. Два оставшихся года так и кусал интеллигенцию, с яростью гончей, клацающей челюстями над ухом каждого, кто подворачивался под горячую “лапу”.
Собственно, все надежды на лучшее для нашего искусства именно тогда и начали сворачиваться. Оттепель заканчивалась. Начинались ещё лёгкие, но заморозки. И торжественно-печальным аккордом года стал выход большого рассказа никому не известного тогда Александра Солженицына “Один день Ивана Денисовича”. Публикация состоялась не потому, что градус свободы поднялся до максимальной отметки, скорее наоборот — слишком тяжело было главному редактору “Нового мира” Александру Твардовскому пробивать эту вещь, слишком долго шла она к читателю и добрела уже на излёте эпохи. Ведь рассказ Солженицына больше года пролежал в редакции и только под личным давлением Хрущёва на собственных идеологов был втиснут в ноябрьскую книжку. Повезло. Кубинский кошмар обрушился на генсека, когда номер отправили в типографию. А иначе, кто знает, может, и пришлось бы Александру Исаевичу собираться за кордон намного раньше...
И всё равно это был счастливый, яростно-прекрасный год, прошедший под знаком успеха и неистовых трудов.
И наука шагала семимильными шагами, и в космос поднялись друг за другом два новых космонавта — Андриян Николаев и Павел Попович.
И было вокруг АБС очень много новых и старых друзей, а врагов ещё практически не было.
И вроде бы ничто не предвещало серьёзной беды...
(Продолжение следует.)
ИЮНЬСКИЙ ДОЖДЬ
Читайте в любое время
Оформить заказ
Другие статьи из рубрики «Книги в работе»
Аркадий и Борис Стругацкие. Начало 1960-х годов. Фото из семейного архива, как и все остальные, что приводятся в тексте. Снимков накопилось немало, но точно так же, как и в любой другой семье, никто не позаботился проставить даты. Поэтому автору приходилось восстанавливать события по косвенным датам и указывать примерное время.