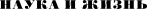«Крупный музей обязан заниматься научной работой»
Зачем в музее нужна научная работа, всегда ли музеи должны рассказывать правду и ничего кроме правды, и надо ли сообщать людям подробности личной жизни великих? Об этом наш разговор с Григорием Голдовским, заместителем генерального директора Русского музея по научной работе.
— Григорий Наумович, в сознании обывателя музей – это чисто культурное учреждение, где представлена сфера искусства, и науке там не место. Это не так?
— Во-первых, музей музею рознь. Существуют разные учреждения: естественно-научные, отраслевые, краеведческие, галерейного типа. Считается, что есть музеи, которые только выставляют артефакты, занимаются исключительно экспозиционной практикой, наукой могут и не заниматься. Это представление не совсем корректно: есть такой неотъемлемый от музейной деятельности процесс, как атрибуция. На русский манер его ещё называют «вещеведение»: прежде, чем показать произведение, его надо изучить, и эта функция музея обязательна.
Что же касается крупных музейных институций, таких, как Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Исторический музей, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, энциклопедические отраслевые музеи, такие как Политехнический музей, Музей театрального и музыкального искусства, Бахрушинский музей, Музей музыкальной культуры имени Глинки – эти музеи всегда занимались фундаментальной наукой. Более того, до недавнего времени Русский музей числился научным учреждением. Здесь долгие годы действовала аспирантура и функционировал диссертационный Совет.
— Сейчас уже нет?
— Сейчас, к сожалению, уже нет. Совет закрыт, потому что его деятельность достаточно хлопотна, а объём насущных, текущих задач, напрямую связанных с музейной спецификой, которые музей вынужден решать, непрерывно растёт. Не говоря уже о том, что, к сожалению, за последние годы значительное количество докторов наук, которые были членами нашего Совета, ушли из жизни. Новый состав этого подразделения сформировать было бы сложно. Но я уверен, и администрация музея меня в этом поддерживает, в частности генеральный директор Алла Юрьевна Манилова, что разносторонне заниматься наукой об искусстве музей обязан. Нужно врастать в систему разностороннего и углублённого научного осмысления искусства.
— Как происходит такое врастание?
— Занимаясь атрибуцией, музей неизбежно занимается научно-исследовательской работой, поскольку условием экспонирования и каталожной публикации произведения, которое поступает в музей или переосмысляется в процессе музейного бытования, является его всестороннее изучение. В крупном музее с большим научным потенциалом, целью исследовательской деятельности отнюдь не является единичный предмет. Возникает необходимость комплексного изучения явления, которое этот предмет представляет, задача выявить его место, роль и значение в контексте художественного развития эпохи, страны, мира. Что безусловно влечёт за собой экстраполяцию вещеведческого интереса на явление в расширенном смысле (стиль, метод, направление), и ещё глубже и шире – на этапы художественного развития эпохи, страны, цивилизации и так далее. Тем более, если мы имеем дело ещё и с очень значительными шедеврами, которые хранятся в нашей коллекции.
У нас есть замечательный, богатый рукописный отдел, музейный архив, который собирает документы, касающиеся не только отдельных персоналий, но и истории искусства в целом. Каждый отдел занимается соответствующей хранимому материалу научной темой. Разрабатываются не только локальные, но и комплексные научные темы. Скажем, один из последних ярких примеров – выставка «Наш авангард», с огромным успехом состоявшаяся в 2025 году. Здесь преимущество Русского музея, который обладает самой крупной в мире коллекцией русского авангарда, заключается ещё в том, что те научные выводы, которые делаются в процессе изучения авангарда, его концептуальной разработки, музей может визуализировать. Это, я думаю, очень важно и интересно.
— Какие научные выводы делаются в результате таких исследований?
— Например, выводы о становлении и эволюции авангардного искусства, о концептуальных задачах тех или иных художественных групп и направлений, его составляющих. Фундаментально изучается, скажем, деятельности Института художественной культуры и Музея художественной культуры, который всей практически своей коллекцией вошёл в состав Русского музея.
Есть самые разные научные темы, которыми сотрудники научной части Русского музея комплексно занимались, издавая результаты в каталогах и сборниках статей -- от Древней Руси до искусства новейшего времени. Мы представляли, к примеру, выставку с поэтичным названием – «Осень русского Средневековья», материал которой – иконопись второй половины XVI века. В процессе его изучения были сделаны концептуальные выводы об особенностях этого периода. Целые пласты результатов художественной деятельности тех или иных мастеров были передатированы, сделаны обоснованные выводы о связях различных иконописных школ.
У нас была выставка «Русский романтизм», которая сопровождалась научной конференцией. Я не говорю уже о важных монографических темах. Скажем, Русский музей, обладая самой большой коллекцией произведений Павла Филонова, воспользовался уникальной возможностью и выпустил на своей базе несколько каталогов работ самого мастера и художников его школы, а также монографию о его творческом методе. Наши исследования хорошо известны в искусствоведческом мире.
— Наверное, немало диссертаций было защищено на все эти темы?
— Были и диссертации – кандидатские и докторские. Музей как институция органично совмещает фундаментальные теоретические исследования в изучении искусства и их прикладное использование. Скажем, в Русском музее была изменена периодизация творчества Казимира Малевича. Был выяснен целый ряд обстоятельств, касающихся его творческой биографии. Создатель супрематизма в поздний период творчества писал произведения, которые намеренно датировал более ранним временем, видимо для усиления целостного представления о своей творческой эволюции, думая о том, как его будут воспринимать потомки.
Я не называю имен коллег, которые были авторами наших научных публикаций и открытий, потому что список их был бы слишком большим – или непростительно малым. В научной среде имена русскомузейных исследователей легко идентифицируются по профессиональным интересам. Хочу лишь сказать, что научной деятельностью музея почти сорок лет руководила Евгения Николаевна Петрова, только что внезапно ушедшая из жизни. Многие научные и выставочные достижения связаны с её именем.
— Сейчас появилось очень много маленьких частных музеев, которые развивают одну тему: музей пыток, музей леденца, бублика, шоколада... И там очень часто, как я заметила, рассказывают какие-то легенды: якобы именно в этом месте когда-то был произведён первый леденец, например, или шоколадка. То, что это исторически недостоверно, их не волнует: люди же слушают, им нравится. Как вы считаете, важно ли соблюдать некую историческую правдивость в музее?
— Мне кажется, это вопрос риторический. Сейчас действительно в информационном пространстве циркулирует много разного рода домыслов и спекуляций. Музей должен нести исключительно достоверную информацию. Каждая музейная тема, каждый музейный показ превращается в способ комплексного исследования того или иного материала. Из последних примеров – тот же «Наш авангард»: выставка сопровождается компендиумом научно-интерпретационных сочинений, каталогом, в котором опубликован целый ряд статей наших сотрудников, специализированно занимающихся тем или иным разделом этой масштабной темы. Я уже упоминал выставку «Русский космизм», осмысливающую эту воистину глобальную тему с точки зрения истории отечественного искусства.
— Русский космизм – это уже философское течение.
— В значительной степени да, но философия – наука. Научные философские проблемы также поддаются художественному осмыслению.
Недавно у нас состоялась выставка Карла Павловича Брюллова – крупнейшая за последнее время, с массой новых работ, опубликованных нами, с каталогом в 400 страниц, с исследовательским информативным и интерпретационным материалом, где статья была целиком посвящена вопросу не только и не столько жизни великого Карла и датировке его творческих порывов, но и особенностям творческой личности, творческому методу. Кроме всего прочего, по следам этой выставки мы провели научную конференцию и выпустили сборник научных трудов.
— А сейчас у вас с огромным успехом проводится выставка Архипа Куинджи, на которую, к слову, невозможно попасть.
— Да. Это настоящий зрительский успех. Каталог, который уже опубликован, разумеется, имеет и научный смысл. Там, например, не впервые, но целостно публикуется вполне достойный любого научного издания вопрос о знаменитом конфликте между Куинджи и талантливым пейзажистом Руфином Судковским.

Портрет Архипа Куинджи кисти Ильи Репина, открывающий выставку. Фото Н. Лесковой.
— В чём суть скандала?
— Куинджи обвинил своего собрата в том, что он «заимствовал» у него пейзажный мотив «камни в воде», обратился в прессу. Публика в оценке инцидента разделилась на адептов Куинджи и поклонников Судковского.
— И кто выиграл?
— Никто, Куинджи потом успокоился и отказался от своих претензий. Ведь, собственно говоря, этот мотив не изобретён автором «Лунной ночи на Днепре». К примеру, у великого Александра Андреевича Иванова есть картина, которая так и называется «Вода и камни».
— Куинджи тоже обвиняли в заимствовании?
— Нет, но в принципе, если задаться целью, можно бы. Это конечно локальная проблема, но сам сюжет достаточно красноречиво свидетельствует о взаимоотношениях в художественной среде России во второй половине XIX века – вопрос, достойный отдельного вполне научного внимания. Сам эпизод мог бы остаться незамеченным, если бы вокруг него не возникло предметного спора на вполне научную тему: в чём различие одновременного использования художественного мотива -- и плагиата? Это я к тому, что Куинджи – вроде бы исключительно зрительская выставка, однако проблем, связанных с творчеством этого гениального ландшафтного живописца предостаточно. Скажем, ещё одна важная тема, которая уже не раз провозглашалась – об особенностях цветовидения и цветописи Куинджи, о разработке им пигментов особого состава и об особом, ярко индивидуальном цвето- и фактуропостроении его картин.
— Выставка так и называется – «Иллюзия света». В чём секрет этой иллюзии? Вам удалось выяснить? Ведь ходили слухи, что он лампочку ставит за картиной, чтобы достигать особого эффекта.
— Это до сих пор недопроясненная загадка исключительной художественной индивидуальности мастера. Самые разные ходили слухи: и про лампочку, и про то, что он подмешивает в краски люминесцентные смеси. Ничего достоверного в этих догадках нет. Здесь лишь одно совершенно понятно: он использовал особенности фактуропостроения картины, взаимодействие различных живописных слоев, пользовался особой лессировочной системой.
— Это такое ноу-хау, говоря современным языком?
— Для Куинджи – да, это его открытие. Многие вопросы его творческой биографии так до конца и не прояснены. Никто до сих пор не объяснил убедительно, почему Куинджи с начала 1880-х годов на двадцать лет вообще прекратил выставочную деятельность, хотя и продолжал работать, о чём свидетельствует огромное количество сохранившихся живописных этюдов и эскизов.
— А он сам не оставил на эту тему каких-нибудь дневников?
— Нет, нет сообщений о том, почему он так решил. Известен сам факт. Он вообще оставил немного письменных свидетельств о своей жизни.
— Почему?
— Не силён был великий пейзажист по литературной части: греческую грамоту постигал под руководством земляка-грека, в своём Мариуполе, где родился, некоторое время – около двух лет – посещал городское училище. А ещё жадно впитывал опыт общения с разными людьми. Среди его дружеских контактов – Дмитрий Иванович Менделеев.
— Может, ему Менделеев подсказал какие-то химические секреты?
— Не думаю – скорее учёный сам интересовался приёмами художника. Но были и исследования: изобретатель «спектрофотометра», известный оптик Фёдор Петрушевский экспериментально определил, что у Куинджи был особый дар цветовосприятия, цветовидения. Как у музыкантов: кто-то слышит фальшь до 1/32-й тона, кто-то – до 1/128-й, а кто-то и отклонение в полтона не обнаружит. Ко всему прочему, как известно, люди, у которых вообще нет музыкального слуха, очень любят петь.
Многими талантами обладал Куинджи. Среди них – дар предпринимательства, он сумел скопить очень значительное состояние, на средства из которого купил имение в Крыму, три доходных дома…
— Но при этом 20 лет не выставлялся.
— Вот так. И все свои деньги он пожертвовал Обществу художников своего имени, только на основание которого истратил 150 тысяч рублей, очень заметные средства. Обществу он завещал и имение в Крыму. И все свои работы, оставшиеся по кончине. Супруге назначил лишь только годовое содержание – в две с половиной тысячи рублей. Вот такая удивительная преданность профессии.
— Ещё есть такая точка зрения: нам не надо знать эти перипетии биографии, тем более что бывают разные не слишком красивые моменты, и если узнаешь о них, то образ кумира меркнет. Не надо, не рассказывайте – мы только будем слушать их музыку или смотреть их картины. Что думаете по этому поводу?
— В своё время я над этой проблемой размышлял, работая над статьями о творчестве Павла Андреевича Федотова и Александра Андреевича Иванова. Там я задавался сам и задал читателям вопрос: какое дело человечеству до искривлённой шеи, хромоты и кособокости Микеланджело, если ими он оплатил появление плафона Сикстинской капеллы? Кого интересуют причины бегства Леонардо да Винчи из Флоренции в Милан, под неласковое покровительство Сфорца, коли уже написана была легендарная «Джоконда»? Важны ли потомкам обстоятельства любви Рафаэля к прекрасной Форнарине, да и сама его безвременная кончина, если их неотъемлемым достоянием остались росписи ватиканских Станц и «Сикстинская мадонна»? Зачем созерцателю «Лунной ночи над Днепром» знать о сиюминутных личных обстоятельствах двадцатилетнего молчания её автора, ежели картина, а потом и ещё десятки произведений, созданных «до» и «после» остались на века духовным багажом народа, страны, мира? Эти вопросы отнюдь не бессмысленны.

А. Куинджи, «Ночь над Днепром». Фото Н. Лесковой.
— К какому же выводу вы пришли?
— Не уверен в своей абсолютной правоте, но считаю, что особенности личности (вплоть до физиологических) и судьбы творца могут и должны интересовать зрителя, читателя, слушателя. Если не искать их буквального и непосредственного отражения в произведениях художника, то есть интерпретации почти всегда, как правило, додуманной, измысленной, ложной. У разных людей разная мера чуткости, разнонаправленное восприятие художественных явлений. Полюсы: восклицание «О неразумная сила искусства!» одного литературного героя – и «В Греческом зале… В Греческом зале…» – другого.
Я часто цитирую одного моего высокопрофессионального именитого коллегу. На одном из вернисажей некая дама, расчувствовавшись, сказала ему: «Вы постоянно общаетесь с искусством. Это общение воспитывает личность, улучшая её». А он парировал: «Хороших людей искусство делает лучше, а плохих – ещё ухудшает». Есть в этом утверждении некий гротеск, но в целом оно имеет смысл.
— А ведь есть те, кто считает, что какие-то неприятные или порицаемые личные качества художника обесценивают его произведения?
— Ну да. Достоевский был игроком. Мусоргский пил. Свои поведенческие особенности были у Чайковского… Но это всё вещи прикладные. Если и для наук – то для других. Скажем, для социальной психологии. Но мы читаем «Бесов», внемлем «Картинкам с выставки» или благоговейно слушаем Пятую симфонию, и нам в принципе абсолютно всё равно – и перед приходом в концертный зал, и во время звучания, и в переживаниях по окончании представления – какие трагические личные обстоятельства спровоцировали эти явления, ставшие всемирным и всевременным достоянием человечества.
В своё время известный психолог и искусствовед Рудольф Арнхейм задал сакраментальный вопрос: «Был ли бы Рафаэль живописцем, если бы у него не было рук?». Обыденное, бытовое, буквалистское суждение, для которого картина – «холст, масло» – объявит этот вопрос лишенным смысла: чем же кисть держать? На самом деле это проблема фундаментальная – что есть художник? И он определённо не конгломерат физических, телесных признаков, а особенная духовная структура с уникальными способностями к особого рода творчеству. А его творение – прежде всего, эманация духа, взрыв духовной энергии.
— Сотрудничаете ли вы с научными учреждениями?
— При необходимости, конечно. Музей – полифункциональное учреждение, условие его успешной деятельности – работа на стыке различных научных дисциплин – это и история искусства (специализированные институты существуют в Министерстве культуры и в Академии художеств), и вспомогательные исторические дисциплины (генеалогия, нумизматика, фалеристика, сфрагистика и другие) – тут нам в помощь Институт истории РАН, и физика для технологических исследований, и химия – в реставрационной практике… Поэтому мы нередко обращаемся за содействием к коллегам. Крупный музей неизбежно ведёт исследования в разных видах деятельности, и он по праву должен иметь статус научного учреждения.