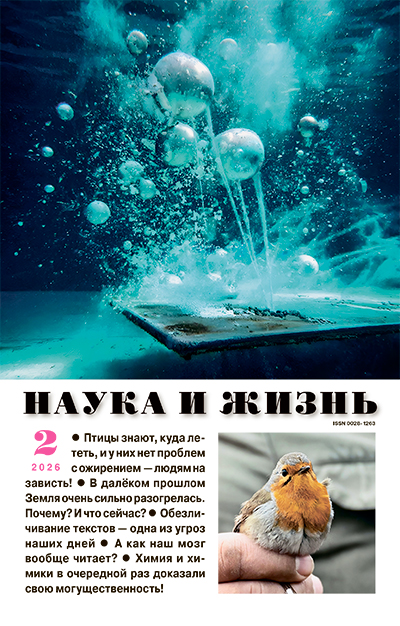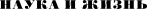Обучение без нужды
Бесцельное изучение окружающего мира помогает мозгу лучше справляться с будущими задачами.
Когда говорят об обучении, то обычно имеют в виду, что к нему прилагается какой-то стимул: мозг запомнил нечто, потому что этому нечто сопутствовала немедленная награда, или отложенная награда, или он просто выполнял какие-то инструкции – хотя и выполнение инструкций отчасти можно рассматривать как действия ради награды. В общем, когда говорят об обучении, то подразумевают, что должна быть цель, мотивация. Если воспользоваться нейробиологическими методами, которые позволяют понаблюдать за нейронами вживую, то можно увидеть соответствующую обучению перестройку в синапсах: нейроны формируют новые нейронные цепи (или редактируют старые), чтобы отточить поведение, которое ведёт к награде. В большинстве случаев такие опыты ставят на мышах или крысах, в которых фигурирует простая и немедленная награда: например, мышь идёт по лабиринту и время от времени натыкается на что-то вкусное. В итоге лабиринт или какое-то другое место будет у неё определённым образом размечено: зрительные нейроны будут реагировать на фрагменты местности, где можно найти угощение.
Ну а если путешествие по лабиринту происходит без какой-либо цели? Что происходит в мозге, если он просто гуляет и просто смотрит? Сотрудники Медицинского института Говарда Хьюза ставили с мышами примерно такие эксперименты, как описано выше: мыши бежали по коридорчикам, стены которых виртуально имитировали мышиную нору с той или иной текстурой стен, причём зрительные стимулы сопровождались звуками. В некоторых местах «норы» обнаруживалось угощение. Одновременно в мышином мозге следили за активностью нейронов, число которых доходило до 90 тыс. Это были нейроны первичной зрительной коры, где происходит, соответственно, первичная обработка зрительной информации, и нейроны более высоких зрительно-когнитивных «этажей», которые реагируют на сложные визуальные стимулы. Как и ожидалось, когда мыши бегали по экспериментальной установке с определённым мотивом, с их нейронами происходили изменения, указывающие на поведенческое обучение.
Но когда мышей запускали в лабиринт побегать просто так, без цели, то оказалось, что с их нейронами происходит то же самое. Бесцельное блуждание по полувиртуальному ландшафту, который не было нужды запоминать, стимулировало нейронную активность, подобную той, которая сопровождала целенаправленное изучение местности. Зрительные цепочки в обоих случаях настраивались различать разные участки территории. Происходило это высших когнитивно-зрительных зонах, и притом в разных их участках, но собственно нейронные изменения были похожи. То есть пока мышь блуждала бесцельно, нейроны определённым образом работали в одном участке высшего зрительного анализатора, если же она начинала блуждать с целью, то ровно таким же определённым образом начинали работать нейроны в другом участке высшего зрительного анализатора. Более того, если мыши сначала несколько недель гуляли по экспериментальному коридору, а потом перед ними ставили задачу за угощение научиться определять в полувиртуальной «норе» конкретные места, то мыши справлялись с задачей намного лучше, чем когда они брались за задачу сразу, без предварительного блуждания. Результаты экспериментов опубликованы в Nature.
С одной стороны, это может показаться тривиальным: оказавшись несколько раз на прогулке в каком-нибудь парке, мы запомним, где там что находится, хотя бы у нас и не было такой цели. С другой стороны, всегда ли мы отдаём себе отчёт в собственной бесцельности или целенаправленности? К тому же память на детали ландшафта – это лишь одна из разновидностей памяти; можно ведь, к примеру, что-нибудь читать или что-нибудь смотреть совершенно без нужды. Легко предположить, что и в таких занятиях мозг закладывает определённую когнитивную основу на случай, если нам от прочитанного что-то понадобится уже с какой-то ясной целью. Впрочем, можно ли из новых данных делать какие-то психологические выводы для человеческого мозга, станет ясно только после дополнительных исследований. Вообще же проделанные эксперименты важны не только в том смысле, что на примере мышей они показали обучение с целью и обучение без цели (или, если можно так сказать, предобучение). Они также показали, что эти два психоневрологических феномена, будучи очень схожи друг с другом, происходят в разных участках мозга – по крайней мере, если речь идёт об учебной обработке зрительной информации.
Здесь заодно можно вспомнить некоторые исследования, посвящённые тому, что происходит с когнитивными процессами, когда мы витаем в облаках. Так, несколько лет назад мы рассказывали, что детская невнимательность может быть полезна: она помогает справиться с задачами с меняющимися условиями. В другой работе, более ранней, речь шла уже о взрослых, которые на автомате решали некие тесты. Оказалось, что автоматические когнитивные действия выполняются при помощи так называемой дефолтной сети – системы мозговых центров, которая, как считается, занимается только какими-то внутренними вещами, не связанными с внешней деятельностью. Ещё мы рассказывали два года назад о том, что обучение может происходить без награды, но та работа была сфокусирована на динамике нейромедиаторов дофамина и ацетилхолина: их постоянные колебания помогают мозгу учиться даже тогда, когда его за это никто не поощряет.