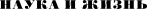Кандидат биологических наук О. ГУСЕВ.
Фото автора.
ВОКРУГ ТАМ, ГДЕ ОБЛОМИЛАСЬ ЗЕМЛЯ
(Оймур - Энхалук, 25 км, 19 августа)
Раннее августовское утро. Я прощаюсь с егерем Черкашиным, в доме которого ночевал, переправляюсь через речку в центре поселка Оймур, и иду по берегу озера на северо-восток.
Я иду берегом легендарного Провала - одной из самых невероятных достопримечательностей Байкала. Сто девять лет назад огромный кусок Саганской степи погрузился в озеро - образовался залив Провал, сейчас самый крупный байкальский сор. Он в три раза обширнее Ранготуйского сора-озера на перешейке Святого Носа, и в пять раз больше недавно пройденного мной Посольского сора. Это случилось после страшного Кударинского землетрясения, в самый разгар восточносибирской зимы. С нетерпением я ждал знакомства с этим зловеще знаменитым местом.
Провал поразил меня уникальностью многих своих особенностей. Гигантский залив Байкала, отгороженный от него несколькими узкими косами-ярками, плоть от плоти этого могучего своим единством озера, провал совершенно не похож на него. Вода залива не имеет ничего общего с искрящимися водами Байкала. Она матовая, темная, шоколадно-бурая; волны у берега с трудом перемешивают густую торфяную массу.
Ничего подобного на Байкале я не видел*, и увидеть не ожидал. Невысокие торфяные берега Провала с нетолстым слоем мазутно-черной почвы с неумолимой беспощадностью разрушаются, размываются, растворяются байкальским прибоем.
С исступленно тревожными криками до границ своих семейных владений меня конвоируют крачки; неожиданно огромные важно поднимаются из калтусов серые цапли; зуйки, перевозчики, большие улиты, и другие кулички то, и дело с криками взлетают впереди меня. Много сотенные стаи чибисов взмывают с земли и, делая круг за кругом над побережьем, напоминают о том, что пора, давно пора собираться в отлетный путь.
Глубина Провала нигде не превышает шести метров, а на большей части залива она равна всего двум метрам. Мелководный сор густо зарос водорослями. На его берег выброшены прибоем тяжелые свертки водяных растений рдеста, урути, роголистника, водяной сосенки. Здесь в огромном количестве живут беззубки, мелкие двустворчатые моллюски, хирономиды, малощетинковые черви. Их с удовольствием поедают полосатые, как тигры, жирные окуни, и красноглазые плотвички-сороги.
За полосой подтопленных озером калтусов среди темных пятен тайги на склонах хребта Улан-Бургасы желтеют прямоугольники полей. И до чего же близки нам эти немые свидетели соседства человеческого жилья! Как бы вы ни стремились окунуться в дремучую первозданность природы, как бы ни уверяли себя в беспредельной любви к непроходимой тайге, всегда, и везде на вечные времена самыми волнующими для вас будут золотые прямоугольники спелых хлебов, напоминающие о гостеприимстве, обжитости, земном уюте. Впервые за много дней пути мои глаза отдыхают, любуясь исключительно привлекательными, умно очеловеченными ландшафтами, такими отрадными, милыми сердцу.
Кончается 1 открытый берег Провала. Я вхожу в реденький березняк, и вскоре попадаю в места с совершенно неправдоподобным пейзажем. Вдоль берега залива на несколько километров тянутся мертвые березовые леса. Они погибли примерно десять лет назад, после того, как поднялся уровень Байкала.
Картина кажется настолько нереальной, что ее можно использовать, как фон для съемки фантастических сюжетов.
Вдоль берега лежат тысячи стволов деревьев, они подмыты прибоем, вывернуты с корнями, отполированы до блеска, и нагромождены в фантасмагорическом беспорядке.
Чудовищно топорщатся огромные вывороты корней.
Густые леса березовых обрубков-остолопов мертвенно белеют по калтусам между берегом, и горами.
Нагляднейшая иллюстрация разрушительных сил озера, тысячелетнее равновесие которого было нарушено!
Здесь берег Провала исчезает с ошеломляющей скоростью. Пройдет, по-видимому, всего несколько десятилетий, и на месте прибрежных калтусов, и берегового вала до самого подножия гор будут простираться воды залива.
С березовыми «лесами» появляются, и песчаные берега - широкие, намытые косы, и твердый приплеск, идти по которому становится значительно легче.
В километре от мыса Облом кладбища березовых обломков сменяются редким, и сухим сосновым бором. В этом месте в залив вдается длинный выступ горного отрога. Но дальше, до самого края Облома, снова видны калтусы с белыми частоколами.
Впереди мыс Облом. Я хочу расположиться на отдых в сосновом лесу, но вижу маяк на оконечности мыса, и решаю дойти до него.
Через четыре часа после выхода из Оймура, сделав всего одну остановку для перезарядки фотоаппарата, выхожу на мыс Облом.
Широкий, крутой песчаный вал. Большая, давно уже мертвая одинокая береза на валу, в бесполезной мольбе распростершая свои костлявые руки-ветви. Две тонких бедных березки рядом с крошечным стогом сена. И у самой кромки мыса, именно там, где, по преданию старожилов, обломилась ушедшая в воду земля, - небольшой маяк.
Что за чудо это озерко! Вода в нем прозрачная, как в Байкале, а дно оранжево-красное.
Впереди две лодки с рыбаками, неясная панорама Приморского хребта за серой ширью Байкала. Слева - буро-желтые воды Провала, шум прибоя, и ветер с моря. Справа - синее, как небо в зените, необычайно уютное озерко в зеленой раме осок.
Удивительно дно озерка. Оно почти сплошь покрыто светящимися, как янтарь, шариками величиной от лесного до грецкого ореха. Многие шарики поразительно правильной шарообразной формы, другие слегка сплющены с, какого-нибудь бока. Шарики наполнены мягким желеподобным веществом, в центре которого заключено твердое беловато-желтое ядрышко. Эту водоросль я несколько раз находил дорогой на берегу Провала, но нигде не встречал в таком неимоверном количестве.
Кипячу чай, варю поесть. Прекрасный пляж полностью в моем распоряжении. Прижавшись к горячему песку, впитываю в себя последнее тепло августовского солнца.
Я лежу у озерка на склоне берегового вала. Ветер с моря пролетает выше меня. И все же вскоре чувствую, что замерзаю. Солнце уже плохо греет, ветер побеждает его. Всем телом я ощущаю, что уже вторая половина, почти конец августа, что лето уже на исходе, и, что со дня на день в горах ляжет снег.
Подари мне, Байкал, еще хотя бы не сколько таких же чудесных солнечных дней, которыми ты был так щедр всю первую половину месяца!
Пока я варю обед, отдыхаю, и пишу дневник, слева от мыса рыбаки заводят небольшой невод. Проходит час, и больше, а их лодки все маневрируют, и маневрируют на одном месте.
Два рыбака сидят на берегу Провала. Вот они поднимаются, входят в воду, и бредут в сторону лодок. Они уходят все дальше, и дальше в Байкал, а вода доходит им только до пояса. Так они, и подходят к лодкам, стоящим метрах в трехстах от берега. С лодок в воду спускаются еще рыбаки, и по три с каждого края тянут невод.
От Облома в сторону дельты Селенги уходит длинная мель. На ней, далеко от берега залива, вскипают, и пенятся белые буруны.
За Обломом - прекраснейшие сосновые леса с даурским рододендроном, и белыми ягельными полянками, с ковриками шикши, брусники, и толокнянки, с множеством сухих шишек под старыми соснами, с огромными красными мухоморами, такими же, как в подмосковных лесах, с маслятами, не похожими на наших маслят.
В таком лесу видно на сотни метров вокруг, идти по нему можно в любом направлении. Светозарные, праздничные, самые человечные байкальские леса!
По этим борам я иду челноком то отхожу от берега далеко в глубину леса, то снова высекаю к песчаной карге. Я забываю, что за плечами у меня тридцать килограммов груза, отстегиваю от рюкзака котелок, и вскоре он наполняется плотными, как боровички, липкими молоденькими маслятами.
В половине восьмого вхожу в Энхалук. Двадцать пять километров я прошел за семь часов, не считая времени на отдых.
ВДАЛИ ОТ ВСЕГО МИРА (Энхалук - Болдаковская, 29 км, 20 августа)
От Энхалука до Заречья ведет хорошая дорога. В Заречье заканчиваются маршруты автобусов из Кабанска, и Улан-Удэ.
Между Сухой, и Заречьем через реку Большую Сухую построен мост. Две эти близко расположенные деревни входят в один колхоз «40 лет Октября», но совершенно не похожи друг на друга. В Сухой широкая, очень чистая улица, выхоленные дома, и ухоженные палисадники. Заречье запоминается одной великолепной подробностью - в ней буквально у каждого дома живописными грудами друг на друге безмятежно коротают «мертвый час» множество свиней, и поросят. И те, и другие вышли в темную, почти дикую масть, и, когда одна из свиней спросонья бросается мне в ноги из-за угла, я вздрагиваю, решив, что на меня нападает кабан.
От Заречья по берегу Байкала на север на сухопутном транспорте можно продвигаться еще километров пять, но дорога доступна только для вездеходов. Переполненные водой ямы надежно охраняют таежный покой. Дальше, за Стволовой, где, когда-то было жилье человека, а сейчас сохраняется покос, до самого Гремячинска идет узенькая таежная тропинка, по которой не везде можно пройти даже пешком. Она сразу же уводит в древнее царство глухомани. Добежав до Белого Камня, она то устремляется по его склонам вверх, то круто падает вниз. По ней давно уже никто не ходил. Проламываясь сквозь густейшие заросли рододендрона, приходится крепко закрывать глаза.
В Болдаковской один жилой дом, и два живущих в нем человека - Иван Семенович Иванов, и Мария Яковлевна, его жена. Когда-то в глубокие "бухточки губы Болдаковской летом подваливали густые косяки омуля, зимой, и весной хорошо ловился хариус. На рыболовецком пункте кипела жизнь; штормоустойчивые ставные невода без устали черпали рыбу; одного омуля засаливали до 700 центнеров в год. Сейчас законсервирован сам пункт Болдаковский, а Иван Семенович, его бывший инженер, остался сторожем, и вот уже пять лет живет с женой почти безвыездно «у самого синего моря»
Здесь можно прожить, и дольше. Губа надежно изолирована от всего мира. Лишь изредка в нее заходит сторожевой рыбинспекторский катер, да кто-нибудь из старых знакомых заскочит на несколько дней погостить, и половить рыбки. По тропе из Заречья давно уже никто не приходит - не те времена. В наш сверхмоторизированный век пройти пешком пятнадцать километров там, где можно проехать на моторе, - немыслимое дело.
Рядом с домом Ивана Семеновича, и Марии Яковлевны шумит, вливается в Байкал прозрачнейшая горная речка. В ее прохладу спускаются на водопой табунки краснобоких маралов, да Михаил Топтыгин перебредает с берега на берег в поисках сладкой медвежьей дудки.
Стол хозяева накрывают на берегу Байкала под весело шумящими молодыми березами. Гостей угощают пахучей гречневой кашей, нежнейшей жареной сорожкой из Байкала, и наикрепчайшим рыбацким чаем. Спать кладут в небольшой домик на берегу ледяного, воркующего козодоем ключа, под жаркую овчинную доху. Утром уговаривают не спешить.
Можно, и не спешить, а идти надо. Путь до Усть-Баргузина долог, а отпуск подходит к концу.
ВОКРУГ МЫСА ТОЛСТОГО
(Болдаковская - табор рыбаков перед Бакланьим, 20 км, 21 августа)
Из Болдаковской я выхожу в одиннадцать утра. В ближайшие дни предстоит пройти самый сложный участок пути на всем южном, юго-восточном, и восточном побережьях Байкала - от Болдаковской до Гремячинска. О нем рассказывают много устрашающего.
Еще в Байкальском заповеднике я узнал, что от Болдаковской высоко в горы поднимается тропа, и, что требуются сутки или двое, чтобы по ней обойти мыс Толстый, что где-то здесь километров на шесть вдоль берега тянутся скалы, глубоко, и круто уходящие в озеро, и, что обойти их невозможно ни низом, ни верхом. Иван Семенович ко всем этим «россказням» был настроен критически и уверял меня, что, если море будет спокойным, пройти можно везде, и даже самое «убойное» место, которое, по его мнению, тянется «метров на сто, не больше», можно обогнуть по береговым камням.
После того, как я преодолел этот участок берега и вышел в Гремячинск, я понял, что ни один из тех, с кем мне пришлось разговаривать, не знал истинного положения дел, и никогда не проходил этого места пешком. Невольно я вспомнил слова К. Паустовского о том, что «с давних пор так уж повелось у нас на Руси, что никто столько не напутает, когда объясняет дорогу, как местный житель, особенно, если он человек разговорчивый»
Тропа от Болдаковской тянется не дальше чем на один километр. Она пересекает ледяной ручеек, оставляет позади себя полуразрушенную избушку и метров через триста от этого места теряется в густом малиннике.
Я спускаюсь к воде, иду по берегу Байкала, по крупным каменным глыбам, и валунам, среди которых изредка встречаются участки галечниковой литорали. Буквально с первых шагов ощущается вся тяжесть предстоящей дороги. Идти приходится очень медленно и осторожно, сосредоточивая внимание на том месте, куда ставишь ногу. Ни на мгновение нельзя позволить себе оторвать взгляд от камней. Особенно тяжело идти по крупноглыбовым осыпям, которые широкими, обманчиво застывшими лавинами стекают с гор. Груды исполинских скальных обломков местами заполняют все пространство между озером, и склонами гор. Приходится преодолевать гребни каменных лавин, перебираться с одной глыбы на другую, с трудом протискиваться в свободные пространства между камнями. Ни в коем случае нельзя поддаваться соблазну прыгнуть с камня на камень! Ни одного прыжка, ни одного слишком большого шага, ни одного резкого шага сверху вниз! И, по возможности, подальше от воды, от дьявольски скользких водорослей, зеленой слизью затянувших камни у приплеска.
У многочисленных «толстых» мысов я поднимаюсь в горы, в тайгу, ищу безопасный и легкий путь. Но, и там такие же камни они покрыты трясиной предательских мхов, заросли нещадно густым кустарником, завалены адовым буреломом. Тропы здесь нет и не было, по-видимому, никогда. Идти же по горам без тропы с тяжелой ношей за плечами сквозь прибайкальскую тайгу невыносимо трудно.
После многих тщетных попыток найти тропу в горах, и пройти верхом я снова вы хожу на берег, где по крайней мере хорошо видно, куда ставишь йогу. Я иду уже полтора часа, но за это время прохожу совсем немного, от силы километра три, до Зеленковского мыса, и, наконец, упираюсь в те самые непроходимые скалы, о которых так много слышал.
Дальнейший путь по берегу невозможен. Невысокие скальные обрывы уходят в воды Байкала, не оставляя для литорали буквально ни одного сантиметра. Если бы быть налегке или нести небольшую ношу, можно было бы подняться на сотню метров вверх и, цепляясь за кусты, деревья и камни, карабкаться по отвесным склонам гор, но с моим рюкзаком это будет мучительно трудно, и смертельно опасно.
И тут мой конек-горбунок вновь служит мне верную службу. Я вынимаю его из рюкзака, разворачиваю, надуваю, вытесываю лопаточку из найденной на берегу дощечки и, отталкиваясь от воды посохом, и лопаточкой, плыву вдоль скал. Невысокие утесики тянутся метров на триста. Между ними в нескольких местах из воды выступают камни, по которым можно идти, но дальше в воду снова обрываются скалы. Местами они покрыты кустарниковой ольхой, и большими кожистыми листьями бадана. Выше по горам нависают небольшие лиственницы и редкие березы среди зарослей даурского рододендрона. Оранжевая лодочка, с трудом вместившая меня, и рюкзак, великолепно делает свое дело, уверенно продвигаясь вперед у самого подножия скал.
Я пристаю на небольшом мысочке, как только кончаются скалы, вытаскиваю лодку на каменные плиты, выдавливаю из нее воздух, полощу ее, отмывая приставший ко дну песок, и укладываю в рюкзак так, чтобы она легла к спине. Дальше к северу везде видна узенькая полоска прибрежных камней, по которым можно идти.
Впереди раздается характерный шум крохалиного выводка. Огромная семья крохалят, в которой я успеваю насчитать около тридцати утят, панически удирает в открытый Байкал. По тому, как перепуганы крохалята, как долго не могут успокоиться, и, как далеко удаляются от берега, легко понять, что даже здесь, в самом безлюдном уголке восточного Байкала, появление человека для них - сигнал смертельной опасности.
На берегах Байкала обитают гоголи, гнездящиеся в дуплах деревьев, большие и длинноклювые крохали. Большие крохали встречаются реже длинноклювых; они гнездятся, как правило, в расселинах скал.
Отличить утят длинноклювого крохаля от утят большого трудно, но от гоголят они отличаются хорошо. Крохалята всегда убегают по воде, поднимая невообразимый шум. Крохалиха то обгоняет утят, увлекая их за собой, и показывая дорогу, то остается в арьергарде для охраны выводка. Там, где крохалей тревожат мало, они подпускают вас близко, затаиваясь среди камней. Чаще же они спасаются бегством за добрую сотню метров до вашего приближения, будучи слишком хорошо знакомы с коварством человека. Гоголята всегда подпускают значительно ближе и, уплывая от вас, то и дело ныряют, уходя под водой.
Это первый встреченный мной выводок за все время пути от Порт-Байкала до Болдаковской. Он явно объединенный, составленный, по-видимому, из двух выводков, утки которых погибли от браконьеров или хищников. Вскоре я вспугиваю еще два выводка крохалей. В одном из них всего шесть утят, в другом, так же, как, и в первом, штук тридцать, не меньше. Ни при одном из выводков нет уток.
Крохаль - ландшафтная птица побережья Байкала, но в часто посещаемых людьми местах он становится исчезающим видом. Выводки нелетных крохалят браконьеры уничтожают самым варварским способом - они преследуют их на катерах и быстроходных моторных лодках. Почти на всех катерах в любое время года есть нарезное, и гладкоствольное оружие. Заметив утиный выводок, катер устремляется в погоню. Первой под выстрел попадает самка, отводящая опасность от птенцов.
Таким же способом уничтожают уток в дельте Селенги, в устье Верхней Ангары, на разливах перешейка Святого Носа на озере Ранготуй. Выстрелы с бешено мчащихся моторных лодок настигают дичь до того, как она успевает подняться в воздух. И когда в сентябре наступает сезон охоты, и в угодья приезжают охотники, от дичных ресурсов им остаются жалкие крохи.
За много лет работы на Байкале я побывал во всех населенных пунктах его побережий - Култуке, Слюдянке, Утулике, Мурино, Танхое, Максимихе, Усть-Баргузине, Ннжне-Ангарске, Покойниках, Горемыке, Томпе, Онгуренах. Говорил со многими байкальцамн, долго стоял у прилавков книжных магазинов. При огромном желании местных жителей знать Байкал поражает крайне слабое знание его, полное невежество в отношении статуса его охраняемых территорий, правил, и сроков охоты и других промыслов. На полках магазинов, и у большинства местных жителей полностью отсутствует байкаловедческая и природоведческая литература. Создается впечатление, что вся огромная работа по пропаганде охраны Байкала, ведущаяся в Москве, Иркутске, и других крупных центрах, не доходит до тех, для кого она предназначена в первую очередь, - до жителей берегов Байкала, без помощи которых охрана озера невозможна.
Нравственность, как хорошо сказал кто-то, - это цветение истин. До тех пор, пока местные газеты из номера в номер не будут регулярно пропагандировать природоохранительные истины, изо дня в день способствовать их интенсивному обращению среди местного населения, нравственности по отношению к природе на Байкале не будет.
До одного из небольших мысков перед мысом Толстым я иду еще сорок минут. Отсюда по глубоким мхам рододендронового листвяга вьется тропка, но вскоре, перевалив на правый берег небольшой, но очень бурной речки, она уходит вверх по ее распадку. Я иду по ней в горы, решив, что это именно та тропа, которая огибает мыс Толстый, но вскоре догадываюсь, что это промысловая тропа охотников, уводящая в соболиные, и медвежьи урочища. Я возвращаюсь к устью реки, и ищу тропу рядом с берегом, но не могу обнаружить никаких ее признаков. Упорные попытки найти тропу выше по склону снова терпят фиаско. Продолжать путь вперед, как это ни мучительно, и опасно, можно только по береговым камням. И я снова иду, иду четыре часа. До мыса Толстого в воды Байкала уходит еще с десяток высоких мысков. Снова с огромным напряжением приходится карабкаться по нагромождениям камней, где падение даже с небольшой высоты очень опасно. Огромные каменные глыбы весом в несколько тонн легко обрушиваются вниз, уходят из-под ног в самый неожиданный момент.
Многие сотни метров приходится идти по плавнику, которым завалены берега. Множество бревен-гигантов выброшено прибоем на берег, окатаны, как галька, о прибрежные камни, навалены, как в запани лесозавода. Чем дальше я отхожу от Болдаковской, тем больше бревен вижу на берегу. Но плавник не менее вероломен, чем камни. Бревна, которые с трудом может сдвинуть трактор, виляют в стороны с неправдоподобной легкостью. Прибой, и близость моря делают их постоянно влажными, и не менее скользкими, чем обросшие водорослями камни.
Остроребристые крупноглыбовые россыпи чередуются с валунной литоралью.
Мыс сменяется мысом, я воссылаю моления богу, чтобы эти мысы наконец прекратились, но им не видно конца. При таких темпах передвижения сегодня в Островки не попасть и, видимо, придется заночевать в зимовье за мысом Толстым. И снова - в который раз! - я делаю несколько отчаянных попыток преодолеть мысы горами, но опять попадаю в хаос бурелома, кустарников, мхов, и камней, и спускаюсь на берег.
Наконец, обогнув мыс Толстый, я вижу старое, хорошо сохранившееся зимовье. В нем можно отдохнуть, и переночевать. Около зимовья никого нет. В доме на полу лежат постели, стоит раскладушка, в беспорядке валяются вещи, какой-то экспедиции, все участники которой или выехали за продуктами в населенный пункт, или ушли в горы. Увидев несколько топоров на очень длинных ручках, я вспоминаю, что мне говорили о том, что где-то здесь, за Болдаковской, стоит Тамбовская лесоустроительная партия.
С огромным облегчением я снимаю рюкзак, и сажусь на пень. Перед зимовьем от дверей до кострища толстым слоем гниет картофельная шелуха, и остатки трапез. Рядом с кострищем разбросаны консервные банки, обрывки бумаги, клочки полиэтиленовых пакетов. И тут я начинаю замечать, что вокруг невыносимо зловонит, и, что у стен зимовья, и даже под самым окошком все мерзко загажено.
Мне больно за тех охотников, и рыбаков - хозяев зимовья, - которые валили лес, пилили нужной длины бревна, прокладывали теплым мхом, вязали их накрепко в лапу и подводили под крышу, и все это только для того, чтобы нечистоплотные вандалы с дипломами лесных инженеров, временщики без чувства уважения к красоте Труда и Земли превратили его в смердящую помойную яму.
До отдыха ли тут, и ночлега? Я наваливаю на себя рюкзак и с тяжелым чувством обиды, и утраты снова ковыляю по камням.
Время приближается к сумеркам. Впереди виден длинный, тонкий мыс, у которого должны кончиться мои мучения. Я выхожу на берег пологой, как будто очерченной циркулем бухточки. Впервые на всем протяжении от Болдаковской ее литораль образована чистейшим желтым песком. Здесь можно удобно устроиться на ночь, но нужно дойти до тонкого мыса. Я выхожу к нему ровно в восемь часов.
Рядом с берегом, в тайге, на ровной площадке расположен старый табор рыбаков - кострище, место для еды, сооружение для тента и палатки, немного наколотых дров.
Я натаскиваю плавника для костра, кипячу чай, открываю банку мясных консервов, и разогреваю их на костре, но после всех тягот труднейшего перехода есть не хочется совершенно. Две кружки очень сладкого чая, и я сыт до утра.
Большой эвенкийский костер надежно греет всю ночь, но долго не удается заснуть. К полуночи грозно расходится Байкал, и своим могучим ревом заглушает все подозрительные, настораживающие, пугающие голоса ночной тайги,
БЕСПРЕДЕЛЬНА КРАСОТА ЗЕМЛИ!
(Табор рыбаков - Островки, 13 - 15 км, 22 августа)
В девять часов утра я покидаю место ночевки и через два с половиной часа уже загораю в самом живописном месте восточного побережья Байкала - на мысе Бакланьем. Но я расскажу обо всем по порядку.
От места ночлега вдоль берега Байкала есть тропа. Она слабо нахожена, завалена буреломом, заполонена даурским рододендроном, и на ней нет затесок. Идти по ней нелегко, но все же несравненно удобнее, чем по камням литорали. Тропа послушно повторяет все взлеты и провалы местности; она то, и дело взбирается на увалы и снова устремляется в распадки. На тропе красноречивым предупреждением зеленеют громадные кучи медвежьего кала. Тропой могут пользоваться лишь медведи, маралы да очень опытные таежники; люди, не посвященные в тайны гор, будут сбиваться с нее через каждые сто метров. Дважды я забираюсь вверх по звериным тропам, но быстро спохватываюсь, и выхожу на главную тропу. У одного из увалов я теряю ее окончательно, выхожу на берег озера и около километра иду по песчаной карге.
Наконец я выхожу на мыс Бакланий, смотрю вокруг, и не верю глазам. Байкал вознаграждает меня за все мучения пути, и если бы понадобилось увеличить их в десять раз, я охотно пошел бы на это. Необычайная живописность окружающего приводит меня в глубокое волнение.
С мыса Бакланьего открываются панорамы всех главных центров средней части Байкала. Мыс обрывается в озеро большими камнями. За ними, метрах в ста пятидесяти от берега, лежит небольшой плоский остров, заросший цветущими травами. К югу от мыса Бакланьего одна за другой врезаются в берег бухточки с круто изогнутыми серпами песчаных кос. Их обрамляет изумительно ровная нисбегающая линия массивного мыса, уходящего в синеву Байкала.
К северу, в небольшой губе, сквозь зелень лиственниц, и берез видны скалистые мысы и островки, о которые бьются волны, взмывая стремительными фонтанами. На камнях невозмутимо восседают большие белые чайки. Еще дальше к северу горизонт замыкает черный массив Улан-Бургасы, а за ним, уже совсем далеко, нечетко, и туманно, едва виднеются отроги Голондинских гор. И тут же, рядом, кажется, что совсем близко, а на самом деле в сорока километрах, - древний остров Ольхон, с обрывистыми северными мысами, с характерным, слегка волнистым абрисом.
Да, и сам мыс Бакланий! Нет прелестнее места на всем восточном берегу Байкала! Он густо покрыт брусникой, ярко светится пижмой, и золотой розгой. Крошечные полянки среди сибирского дерна и даурского рододендрона покрыты красными листьями бадана.
Неповторимое очарование придают мысу поразительно живописные деревья. Мы готовы употреблять эго слово при виде первого понравившегося нам места, не задумываясь над его содержанием. Яркость, красочность, сочность, живость, образность. При всем богатстве русского языка не хватает слов, чтобы выразить те ощущения, которые дарит Бакланий. Большая береза с густой, и приземистой кроной вольно разрослась от одного корня над самым обрывом; махровая длинная хвоя лиственницы на укороченных веточках; сосна с ровным карминно-оранжевым стволом, с красиво разросшимися у макушки ветвями; и чрезвычайно компактные, небольшие, но уже зрелые сосенки, густо усаженные шишками на высоте человеческого роста.
Можно видеть тысячи разных «живописных» деревьев, и не запомнить ни одного. И можно с первого взгляда полюбить дерево на всю жизнь, запомнить его более ярко, чем образы встреченных в дороге людей. Именно такие деревья растут на мысе Бакланьем.
И все это щедро облито еще теплым солнечным светом, озвучено мерным гулом моря, расходившимся после ночного шторма, украшено яркими бурунами, дробящимися о скалы-островки при совершенно безоблачной, и безветренной погоде! Беспредельна красота земли! Я хожу по мысу Бакланьему, лежу на его брусничных полянах, радуюсь, как ребенок, горжусь тем, что вижу, и в то же время мне больно оттого, что вся эта необыкновенная красота открывается мне одному.
Никто во всем мире сейчас не знает, где я. На мгновение я ощущаю беспощадное торжество Вечности, и в тот же миг с пронзающей ясностью мой мозг озаряет сознание потрясающей краткости нашего пребывания на земле. Я вспоминаю дорогих мне людей, друзей, брата, жену, сына, дочь; я вспоминаю мать, самого близкого мне человека, перед которой всю жизнь чувствую себя в чудовищно неоплатном долгу. Видя, как быстро она стареет, как жестоко устала от жизни, я боялся поцеловать ее, чтобы не разрыдаться. Каждый раз, целуя ее, я сознавал, что жизнь быстротечна, что, когда-нибудь ее может не стать, и мне становилось страшно.
Мне страшно от сознания, что мыс Бакланий трагически мал и беззащитен, уничтожить его так же просто, как легко уничтожить другие уникальные уголки Байкала.’
Байкал громаден, и могуч, Байкал необычайно мал и уязвим. И это не парадокс. На огромном протяжении байкальского побережья жизнь человека возможна в чрезвычайно узкой полоске берега, в небольших устьях падей, и распадков, на нешироких террасах и конусах выноса рек. Только здесь можно построить дом, поставить палатку, удобно расположиться на отдых, и просто пройти вдоль озера. Круто обрывающиеся в озере горные отроги не только не пригодны для возделывания, но и крайне неудобны для прокладывания троп. Пройдет вдоль берега тысяча туристов, и вся эта тысяча туристов пойдет по одной тропе, нарубит стойки и поставит палатки, вероятнее всего, в одном месте, вся эта тысяча туристов выйдет на мыс Бакланий, ибо миновать его невозможно. И если это будут туристы-варвары, по духу близкие тамбовским лесоустроителям, то за одни летний период Бакланий превратится в пустыню.
Чрезвычайно показательна в этом отношении губа Аяя - очаровательный уголок северного Байкала. Эта глубоко врезанная в сушу бухточка почти со всех сторон окружена крутыми горами, и только со стороны озера Фролихи есть небольшая ровная площадка, на которой можно соорудить лагерь.
Губа Аяя уникальна своим совершенно гольцовым ландшафтом. С высоких вершин Баргузинских альп сюда спустились многие представители гольцовой и подгольцовой растительности. Путнику, впервые высадившемуся на берег губы Аяя, кажется, что он путешествует по баргузинскому высокогорью. Такое парадоксальное распределение растительности ученые называют вертикальными инверсиями синузий, и растительных сообществ. Это объясняется исключительно суровым климатическим режимом в губе Аяя. Здесь, на северных склонах гор, вечная мерзлота залегает так близко, что достаточно приподнять мох, чтобы увидеть лед.
Неповторимая достопримечательность губы Аяя - гигантские, неправдоподобно махровые подушки лишайника-ягеля среди куртинок кедрового стланика. На протяжении нескольких последних десятилетий ягель рос совершенно свободно - его не стравливали исчезнувшие из этих мест домашние северные олени, не уничтожал человек и огонь. Но у ягеля есть одно роковое свойство, которое очень легко приводит его к гибели под жарким летним солнцем лишайник так высыхает, что от малейшего прикосновения крошится на мелкие кусочки. Отряд туристов, пройдя по ягельной опушке, оставляет от него только серую пыль. Растет же ягель чрезвычайно медленно, и требуются десятки лет для его полного восстановления.
Достаточно уничтожить прелестные ягельные полянки в губе Аяя, и она потеряет всю свою привлекательность, на многие десятилетия превратится в рядовой клочок байкальского побережья. К счастью, добраться до губы Аяя нелегко - до сих пор здесь побывало совсем немного туристов. Но, и ей уже нанесены глубокие раны. Многие подушки ягеля расплющены до земли; порублены на стойки для палаток многие уникальные деревца кедра; половина бухты Аяя до тропы на Фролиху сожжена геологами. Окончательно уничтожить ее очень просто - от первой же непогашенной спички весь этот волшебный уголок взорвется, как бочка с порохом.
В узкой полоске байкальского побережья буквально в нескольких метрах от воды гнездятся большие и длинноклювые крохали, с выводками которых мы уже встречались, строят издалека видные гнезда белоголовая скопа, и белохвостый орлан. В соровых озерах по северо-западным берегам Байкала выводят своих белощеких утят азиатские горбоносые турпаны. Жизнь этих птиц теснейшим образом связана с берегом Байкала, где они устраивают свои гнезда, высиживают птенцов, выкармливают их, учат летать, и плавать, и т. д. - словом, где они находят все необходимое для своего существования. И здесь же в этой узенькой полоске суши сосредоточена на Байкале вся человеческая жизнь, проложены туристские тропы. В этом - трагедия птиц. На протяжении четырехсот километров пройденного мной пути от Порт-Байкала до Болдаковской все эти птицы стали необычайной редкостью, и только после Болдаковской, в самом диком, и недоступном уголке восточного Байкала, они встречались довольно часто.
Байкал - это не только вода, и не только то, что в воде. Что останется от Байкала, если на его берегах исчезнут скопа, и орлан, если перестанет гнездиться гоголь, турпан, и крохаль, как уже перестали гнездиться на озерах лебеди-кликуны, как исчезли большие бакланы, как погибли многие птичьи базары в Малом Море, и Чивыркуйском заливе? Что останется от Байкала, если будет уничтожена губа Аяя, бухта Песчаная, острова Ушканьего архипелага, Шаманский мыс, мыс Бакланий? Байкал перестанет быть Байкалом; он превратится в мертвую впадину с ободранными бортами, с ледяной, никому не нужной водой.
У Байкала открытая душа прекрасного, и щедрого человека. Его великодушию, и гостеприимству нет предела! Как спасти его от дальнейших потерь? Чем помочь ему? Ведь это совсем не поздно!! Во многих его уголках сохраняются совершенно первородные природные комплексы.
Байкал будет спасен, если мы вовремя поймем каждая подушка ягеля в губе Аяя, каждое гнездо орлана на вершине сломанного бурей кедра, каждый выводок крохаля на его берегу, каждая сосенка на мысе Бакланьем - драгоценное национальное достояние!
От мыса Бакланьего тропа уводит в сухие сосновые, и лиственничные леса, в страну простора, света, брусники, даурского рододендрона, и уютных бухточек.
Через полтора часа я уже в Островках. В Островки выхожу рано, и могу пройти еще километров десять, но хозяин этих мест Владимир Родионович Кукарский уговаривает меня остаться на ночь.
Дом Кукарского стоит на высоком сосновом мысу между двумя крутыми бухтами; ниже на склоне мыса видны еще два домика. И это все, весь поселок Островки, поставленный Оймурской мебельной фабрикой в 1964 году. Летом в домиках живут лесорубы - человек шесть. Они валят лес в горах, трелюют его тракторами к берегу озера, вяжут в плоты-сигары, и плавят в Оймур, добывая ежегодно около шести тысяч кубометров. Кукарский работает на пиле «Дружба», а все остальное время караулит Островки. Он живет здесь с женой, и сыном.
Высоко на скалистом мысу невдалеке от дома Кукарского под высокой сосной лежит могильная плита. Ее история такова. Лет десять назад справа, и слева от мыса выступали из воды два островка, которые, и дали название этому месту. После того, как поднялся Байкал, острова размыло прибоем, на их месте теперь видны небольшие груды камней. На правом, северном островке, под невысокими березами была одинокая могила, стоял громадный, метра в три, крест, и лежала эта песчаниковая плита. Когда погибли островки, плиту перенесли на мыс, на самую вершину мыса, и положили под старой сосной. В выбитую под плитой ямку спрятали, что удалось спасти, - кусок потрескавшейся, и почерневшей кости от человеческой лопатки. Крест привязали рядом, к одной из соседних сосен.
Плита уже попорчена временем, у нее отбит правый нижний угол, но прочитать, что написано, можно. Я всмотрелся в надпись, и вздрогнул - слова на камне потрясают убийственной горечью, и простотой «Василий Яковлевич Рогов. 51 г. Иван Семен. Карнашов. 24 г. Убиты за 3 буханки хлеба. В апр. 1923 г.»
Вечером я долго сижу на высоком берегу Байкала, смотрю туда, где, когда-то шумели березы на островке, а сейчас торчат из воды лоснящиеся от заката камни. Одиночество до предела обостряет чувства. Одиночество, как ничто другое, способствует их свободному проявлению. «В дороге надо быть непременно одному», - говорил А. П. Чехов во время путешествия на Сахалин. Теперь я, кажется, начинаю понимать, почему он так говорил.