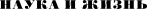(Продолжение. Начало см «Наука, и жизнь» № 12, 1970 г., и № 1, 2, 5, 6, 1971 г.)
Лето в Манчестере
ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ
Теперь день, и ночь перед его мысленным взором маячили заряженные частицы, летящие через вещество. И прежде всего - альфа-частицы. В этом было нечто ритуальное для школы Резерфорда.
Трудно вообразить резерфордовца, хотя бы однажды не повозившегося с «веселыми малышами», как нежно называл альфа-частицы сам шеф. У него были глубокие основания для такой нежное^! это ведь они, альфа-лучи, принесли ему информацию об атомном ядре. Они верно служили ему тонким инструментом для прощупывания недр материи. И его мальчикам всегда предоставлялся случай поработать с этим инструментом. В эксперименте, и хи в теории - все равно.
Незадолго до появления в Манчестере Бора таким случаем воспользовался единственный штатный теоретик, точнее, штатный математик лаборатории - двадцатипятилетний Чарльз Гальтон Дарвин (внук великого Дарвина). Он пришел в университет Виктории тоже из Кембриджа, но двумя годами раньше. И очень скоро стал для датчанина-теоретика, как раз одним из тех манчестерцев, «с которыми можно поговорить». Той весной он закончил, кажется, вторую свою работу под эгидой Резерфорда, •, и само ее название выдавало родословную этой работы «Теория поглощения, и рассеяния альфа-лучей»
Бор прочитал статью Дарвина, когда 1 июня вышел очередной номер «Философского журнала» с его собственной заметкой по поводу Ричардсона. И с этого-то часа воображением датчанина завладели альфа-частицы.
...Не они сами, а их полет сквозь вещество - тернистый путь сквозь скопления атомов. Тернистый? Еще бы ведь этот путь - нескончаемая цепь взаимодействий заряженной частицы со встречными атомными электронами, и атомными ядрами. Впрочем, не такая уж нескончаемая - чаще всего у нее есть раньше или позже наступающий конец запас энергии частицы постепенно истощается, и она затеривается среди атомов вещества, как выдохшийся бегун в толпе.
Теоретическая картина этого процесса должна была правдиво отражать не только свойства летящей частицы - ее заряженность, массивность, скорость, -, но, и характер препятствий на ее пути структуру атомов. Такая картина - по необходимости - двойной портрет. И черты второго лица на этом портрете, атома, всего существенней. Ради верной их передачи, и стоило трудиться день, и ночь.
Так уж оно получалось тут, в Манчестере любой исследовательский шаг обязательно выводил на магистральную дорогу века. (Не всегда это осознавалось сразу, но потом неизменно оказывалось так.)
Двойной портрет, нарисованный Дарвином, не произвел на Бора впечатления достоверного. В череде столкновений с альфа-частицей атомы вещества вели себя, по Дарвину, уж очень ненатурально.
Силовые поля атомных электронов тормозили залетную частицу лишь тогда, когда она прямо вторгалась в атом. А если пролетала рядом, эти поля почему-то никак не взаимодействовали с электрическим полем ее заряда. Бор сказал о таком упрощении «Незаконное предположение»
Дарвин надеялся, что его теория даст сведения о размерах атомов. Но получилось у него нечто совершенно неправдоподобное чем тяжелее были атомы, тем меньше оказывались их диаметры. Это противоречило духу планетарной модели от увеличения числа планет-электронов атом мог только расширяться, а никак не сморщиваться.
Столь же противозаконным показалось Бору, и другое дарвиновское допущение. Когда альфа-частица сталкивалась с электронами во внутриатомном пространстве, они почему-то взаимодействовали с нею так, точно были свободными, и атому не принадлежали. По воле теоретика - для простоты расчетов - их словно бы не удерживало на орбитах притяжение атомного ядра.
Короче, теория, исходившая из планетарной модели атома, словно бы не считалась с требованиями этой модели. И такая логическая несообразность, по-видимому, никого особенно не смутила. Кажется, ее просто никто не заметил.
Прежде всего не заметил сам автор - «здешний юный математик Ч. Г. Дарвин», как с оттенком взрослой снисходительности представил его Бор в письме Харальду. И сам при этом не заметил, что Дарвин был всего на полтора года моложе него, а потому интонация неоспоримого старшинства в его устах звучала не очень-то оправданно. (Однако она была непреднамеренной. Он продолжал жить с ощущением старшинства своей мысли. Ему ведь казалось, что, и Дьердь Хевеши - ровесник - был младше него.)
Логической несообразности дарвиновских допущений не заметил, и Резерфорд. Или счел их допустимыми. Когда теоретические построения не соответствуют ничему реальному, физики иронизируют по поводу «нулевого приближения». Но здесь был, конечно, не такой случай приближенное согласие с экспериментами по поглощению альфа-частиц у Дарвина все-таки наблюдалось. Разве этого было недостаточно для милостивого суда?
Сорокалетнему Резерфорду было достаточно.
Двадцатишестилетнему Бору - нет.
И в письме к Харальду он однажды ничем не смягчил своего приговора теории дарвиновского внука. (Хотя ему, и очень симпатичен был этот длинноногий британец, разговорчивый, и добросердечный.) Он написал:
«Его теория совершенно неудовлетворительна по своей основной концепции.»
Эта критичность без снисходительности была не только возрастной. Просто он относился к идеям планетарной модели, кажется, уже ревнивей, чем сам Резерфорд.
И вот - «я тружусь день, и ночь»
Затворившись в своей холостяцкой квартирке, он трудился над собственным вариантом двойного портрета. В сущности, он хотел установить одно раз летящую альфа-частицу тормозят атомы вещества, при чем тут планетарность их строения?
Атомные ядра. Они массивны, и столкновение с ними, как удар мяча о стену меняется направление полета мяча, но величина его скорости почти не убывает. Это был пункт, где Бор соглашался с Дарвином ядра почти не участвуют в торможении альфа-лучей.
Атомные электроны. Он взглянул на них глазами звездочета. Легчайше подвижные, они реально представились ему на планетных орбитах вокруг Солнца-ядра, и он увидел, как пролетающая мимо тяжелая частица искажает эти орбиты, или возмущает, на языке астрономов. И тут в отличие от Дарвина он увидел, как на орбитальное вращение электронов накладываются их вынужденные колебания под мимолетным, но серьезным воздействием внешней силы. И понял, как подсчитать энергетические траты альфа-частицы на такое попутное одаривание атомных электронов дополнительным движением.
То, что назвал он своей «небольшой идеей», помогло ему понять именно это. Он решился взглянуть на происходящее глазами еще, и оптика. Ему подумалось да ведь и свет, пронизывая вещество, растрачивает свою энергию похожим образом - те же атомные электроны, и с тем же результатом одалживаются энергией у набегающих электромагнитных волн. Надо было лишь сделать эту параллель математически продуктивной. Потом - в обещанной «короткой статье» - он объяснил:
«Намеченная здесь теория торможения движущихся в веществе заряженных частиц во многом аналогична обычной теории рассеяния света»
Проще он отважился сопоставить, как нечто схожее между собой, поток альфа-частиц разных энергий и пучок световых лучей разной частоты колебаний.
Он сопоставил частицы, и волны!
А на дворе стояло лето 1912 года, и до рождения квантовой механики оставалось еще почти полтора десятилетия. И при достаточном желании нынешний историк физики может увидеть в той боровской параллели знамение будущего ранний намек на допустимость странного представления о «частицах-волнах» как физических реалиях микромира. (У /Леона Розенфельда можно найти научно строгую вариацию на эту тему.)
Прав ли будет историк? Возможно. Но доказательству это едва ли подлежит. Однако не автору жизнеописания Бора оспаривать такое утверждение, возвышающее интуицию Бора. А психологически бесспорно вот, что с апреля он жил в непреходящем приступе познания. Его била незримая лихорадка сосредоточенности. В уединении Хьюм-Холла его ищущая мысль, как неустанный радар обшаривала тьму атомного пространства. И при иных поворотах луча его проницательности в самом деле вдруг открывалось больше, чем поначалу можно было ожидать.
Поначалу он вовсе не из ложной или истинной скромности, сообщая Харальду о своей идее-теории-статье, прибавил эпитеты небольшая - маленькая - короткая. Такими они действительно виделись ему. И не из-за малости проблемы, а, как раз напротив - из-за осознанной громадности ее значения для всей физики атома. Он знал, что его вариант двойного портрета, хоть, и будет достоверней дарвиновского, натуры все равно не исчерпает.
И, пожалуй, он вовсе не удивился бы, если б кто-нибудь (ну, скажем, внутренний голос) напророчил ему тогда, что эта тема-торможение заряженных частиц в веществе - станет для него пожизненной:
- Ты будешь возвращаться к этой теме по меньшей мере пять раз. И под старость напишешь даже целую книгу об этом предмете. И благодарные коллеги не преминут почитать ее выдающимся вкладом в современную классику физической науки.
В душах великих тружеников такой обольститель, и льстец не ошибается в прогнозах.
...Однако, хотя Бор, и перерабатывался в то лето сверх всякой меры, до внутренних голосов дело не доходило. И самообольщениями он не страдал. Да, и работа не все время шла по восходящей. Математические выкладки были громоздкими. Иногда они заводили в тупик. И 5 июля, на исходе пятой недели своего затворничества, он написал Маргарет о «взлетах, и падениях» за письменным столом. Правда, лишь затем написал, чтобы туг же с улыбкой уверить ее:
«Все-таки положение с этими крошечными атомами, пожалуй, не выглядит слишком уж безнадежным»
Маленькая теория разрасталась. Короткая статья становилась длинной. И, как обычно, он неотвратимо вползал в цейтнот.
Правда, со стороны никто его не торопил - ни Резерфорд, ни Карлсбергский фонд. И даже история физики, которая втайне всех, и всегда поторапливает, на этот раз не поднимала своего невидимого кнута. Тем не менее к середине июля, когда черновые расчеты-пересчеты были уже позади, и беловой текст начал появляться из-под его пера, он с тревогой почувствовал, что не успевает:
«Дела мои обстоят довольно хорошо, ибо я полагаю, что мне удалось прояснить кое-какие вопросы; но, понимаешь, разработка их давалась и дается не так быстро, как я имел глупость рассчитывать. Надеюсь, однако, что еще до отъезда у меня будет готова часть статьи, и я смогу показать ее Резерфорду.»
Хотя он и надеялся, но в голосе его не было уверенности. А писал он все это Харальду 17 июля, в точности зная, что ровно через неделю, 24-го, отбудет из Манчестера домой, дабы еще через неделю - 1 августа 1912 года - «сочетаться узами брака» с Маргарет Норлунд, уже ставшей для него за время их двухлетней помолвки самым близким, и необходимым существом на свете.
Может быть, он все же успел бы до отъезда закончить статью о торможении и не частью, а целиком, - когда бы только эту статью ему и важно было закончить. Но по дороге он задал самому себе еще одну задачу. И тоже трудоемкую.
ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА
Даже в предотъездной спешке («я так занят, так занят.» - писал о, и 17-го) все длился неостановимый приступ творчества.
Его продолжало знобить пониманием.
И 19-го в торопливом тексте почтовой открытки он дал понять Харальду, что главной заботой его мысли стало уже нечто новое. Разумеется, оно не с неба свалилось «Оно выросло на почве все той же моей небольшой идеи касательно поглощения альфа-лучей». Однако скромные эпитеты тут уже не годились:
«ВОЗМОЖНО, МНЕ ОТКРЫЛОСЬ НЕЧТО СУЩЕСТВЕННОЕ В СТРУКТУРЕ АТОМА......КУСОЧЕК РЕАЛЬНОСТИ»
Этот «кусочек реальности» надо было описать на бумаге. Словесно, и математически. И он принялся за дело, вынужденно прервав на середине беловик статьи о торможении.
Вынужденно! Речь зашла о столь серьезных вещах, что он не мог трезво соблюсти очередность. Немыслимо было покинуть Манчестер или хотя бы отлучиться на время, не вручив Резерфорду письменного изложения новых догадок они относились прежде всего к наиглавнейшей из нерешенных проблем - к загадке устойчивости планетарного атома. И - чем черт не шутит! - может быть, обещали ее раскрытие.
В будущем, но обещали. Он был уверен в этом.
В те предотъездные дни час за часом начала вырастать на его столе рядом с обычной рукописью довольно необычная. Такое впечатление, что ему хотелось каждый пункт волновавшей его программы исчерпать обязательно на одном листе бумаги. Как художнику - рисунок нельзя же делать его с продолжением, и вылезать за край листа. Но ему не хватало листа. И он подклеивал снизу другой. А если снова не хватало, еще подклеивал. На столе вытягивалась единая тематическая полоса - взлетная дорожка для его устремленной в будущее мысли.
Шесть или семь полос разной длины составили Памятную записку, предназначавшуюся единственному читателю.
Самой длинной оказалась, по-видимому, четвертая полоса о строении молекул. Самой глубинной - вторая об атомных размерах.
Проблема размеров атома была синонимом проблемы устойчивости. Это понимали все. Сторонники планетарной модели - не хуже скептиков. И во всех разговорах о теории Резерфорда тотчас всплывало огорчительное признание, что она, эта теория, не давала никакой опоры для суждения об атомном объеме. Иначе - о пространственной протяженности электронного роя вокруг ядра.
Все с охотой повторяли, что для электронов на их орбитах предуготована классическими законами одна судьба падение на ядро. И не видно было, какое могло найтись объяснение трудно оспоримому факту, что мир всё-таки существует!
И существует вполне надежно.
И довольно давно.
И не собирается, сжавшись, вдруг исчезнуть.
Другими словами, нечем было оправдать устойчивость атомных размеров. Пусть они могут меняться, эти размеры, но есть, очевидно, минимальные - такие, что за их пределы электронный рой сжаться уже не способен. Какая может быть тому причина?
Бор подумал (пока еще на классический лад) а, что, если электроны вращаются во круг ядра не по одиночке на каждой орбите, а группами?
Это была не слишком новая идея электронных колец. Ее разрабатывали многие для томсоновской модели атома. И подробней других - сам Дж. Дж. Но в его атоме устойчивость таких колец получалась автоматически, потому, что положительный заряд был размазан по всему атомному пространству. Электроны никуда не могли падать, действительно напоминая изюминки в тесте. Все бы выглядело совсем неплохо, когда бы это положительно заряженное тесто не было мифическим.
А в планетарном атоме любое электронное кольцо не могло не стремиться к сужению под притягивающим действием ядра. Однако, может быть, электроны в кольце, отталкиваясь один от другого, способны противиться этому сжатию? Тогда в принципе допустимо равновесие противоборствующих сил. Устойчивое движение.
Вот, казалось бы, и выход из беды!
Бор вдобавок подсчитал (и в том, как он это сделал, тоже не было еще ничего сверх классики), что для устойчивости электронного кольца в нем не должно быть слишком много электронов. Получалось - не больше семи. Восьмой уже будет выталкиваться наружу - покидать кольцо. Конечно, если заряд ядра будет больше семи, этот лишний электрон все-таки удержится в атоме, но принужден будет вращаться по более удаленной орбите. Начнет формироваться новое кольцо. В нем тоже смогут устойчиво сосуществовать не более чем семь электронов. А потом пойдет формироваться третье кольцо, четвертое, пятое.
Можно допустить, что химическое поведение атомов зависит не от всех, а лишь от самых подвижных электронов. Это электроны внешнего кольца. До полной устойчивой конфигурации в нем могут быть вакантные места - от семи до одного. Не было ли это физическим ответом на старый вопрос химиков почему валентность элементов меняется, как раз от единицы до семи?
В конце первой полосы той необычной рукописи появилась фраза, выписанная, очевидно, с волнением:
«Кажется, все это. весьма надежно указывает на возможность объяснения Периодического закона химических свойств элементов. с помощью рассматриваемой атомной модели»
И в подстрочном примечании Бор еще прибавит, что дать удовлетворительное истолкование Периодического закона Менделеева было бы, но его разумению, наверняка невозможно на основе модели Дж. Дж. Томсона.
Так его доверие к планетарному атому стало еще глубже, чем было. Словно оно уже прошло серьезное испытание. И все же оно оставалось пока только доверием - производным веры. Он не заблуждался из устойчивости его электронных колец вовсе еще не следовала устойчивость самого атома - стабильность атомных размеров.
Это было так очевидно, что, и в разборе-то не нуждалось. По крайней мере для такого читателя, как Резерфорд. И Бор без обиняков начал этим разочаровывающим утверждением вторую полосу рукописи. Но по гому-то она, и оказалась важнейшей, что он продемонстрировал на ней первую свою попытку справиться с этим разочарованием.
А суть заключалась в том, что законы ньютоновской механики позволяли устойчивым электронным кольцам вращаться на любом расстоянии от ядра.
Условия устойчивости кольца требовали от электронов лишь неизменной энергии движения (или неизменной скорости на орбите). Но разве нельзя, вращая камень на веревке с одной, и той же энергией, произвольно укорачивать или удлинять веревку? Надо только быть готовым к тому, что камень будет вращаться то быстрей, то медленней. Двигаясь с одной и той же скоростью, он ведь сможет за равные промежутки времени описывать больше кругов малого радиуса, и меньше кругов большою. Так и с электронными кольцами, придуманными Бором для спасения планетарного атома от изменения их - радиуса изменялась бы лишь частота облета электронов вокруг ядра. А механика Ньютона не запрещала частоте обращения планет вокруг Солнца быть, какой угодно. (Все осложнялось еще классически - обязательным излучением электронов при вращении, но об этом Бор пока не говорил ничего.)
Так, радиус орбит мог быть, каким угодно. В том числе, и сколь угодно малым. И практически сколь угодно малым - даже неотличимым от размеров ядра - мог быть размер атомов.
Бор вынужден был умозаключить:
«Кажется, в законах механики нет ничего, что позволило бы предпочесть, какие-нибудь значения радиуса, и частоты вращения всем остальным»
Это было маленькое теоретическое открытие. Но безрадостное открытие, как закрытие. Несмотря на осторожное «кажется», признавалось, что у классической механики нет способов справиться с этой загадкой атомов.
Однако придумала же природа, какой-то механизм предпочтения, чтобы мир мог существовать! Оставалось предположить, что такой механизм основан не на классических правилах. Надо было усмотреть закономерную связь там, где прежде она показалась бы немыслимой.
В духе тогдашних размышлений молодого Бора -, а он, хоть, и не вышел еще на истинный путь, но уже торил к нему свою тропу - решение напрашивалось, само собой. Надо было лишить электронные кольца привилегии вращаться вокруг ядра с любой частотой.
Для этого следовало частоту вращения каждого возможного кольца жестко - однозначно! - связать с энергией электронов. Тогда бы каждому значению энергии движения отвечала только одна-единственная частота, а остальные были бы запретными. И кольцо электронов принуждено было бы вращаться на строго определенном расстоянии от ядра - на единственно подходящем расстоянии, чтобы электроны успевали облетать ядро только дозволенное число раз. В устойчивом кольце с другой энергией движения электроны вращались бы с другой частотой, и потому - на другом расстоянии.
Если бы еще понять, по, какому принципу выстраивается в атоме прерывистая череда таких колец, сразу окрепла бы надежда дать электронному рою теоретически обоснованный радиус. (Или радиусы.) А планетарному атому - физически объяснимый размер. (Или размеры.)
Но пока для появления этой надежды требовалось одно провозгласить от имени природы существование в микромире совершенно неклассической закономерности - жесткой связи между энергией движения электронов, и частотой их вращения вокруг ядра.
Какие чувства должен был испытать манчестерский затворник, когда подвергся такому искушению? Сам он об этом ничего не рассказал. Однако можно ли было не смутиться при мысли об очевидной несуразности нового закона с точки зрения обычных событий в макромире?
...Вращая камень с неизменной энергией, уже нельзя было бы ни укорачивать, ни удлинять веревку новый закон превращал бы ее в несгибаемый стержень. И танцовщица на льду, изображая живой волчок, тщетно пыталась бы раскидывать или сводить руки, чтобы под аплодисменты зрителей наглядно менять частоту своего верчения на месте теперь ей это уже никак не могло бы удастся.
Антифизический вздор? Но, что если на микроуровне своего бытия природа именно такой ценой обеспечила устойчивость атомов?!
Так, может быть, напротив, не со смущением, а с гордыней законодателя пришлось справляться молодому теоретику? Как бы то ни было, но предложенную им закономерность он осмотрительно назвал гипотезой - не громче. И записал ее сначала только словесно - без математики. И добавил без всякого торжества:
«Здесь не будет сделано никаких попыток дать этой гипотезе обоснование с точки зрения механики (поскольку это представляется делом безнадежным).»
Взамен обоснования логикой он привел оправдание пользой - «возможностью объяснить целую группу экспериментальных результатов». И перечислил их в четырех пунктах. Перечисление выглядело внушительно. Но одного пункта в нем остро недоставало не говорилось ни слова об атомных спектрах. Не было ни намека на обещание расшифровать эти впечатляющие ведомости по расходу электромагнитной энергии в атомах. А ведь это означало, что он еще не знал главного, как справиться с классическим требованием к электронам-планетам непрерывно излучать свет при вращении вокруг ядра? Излучать, и потому, теряя энергию, падать на ядро. Ничего конструктивного на эту тему не было в его тогдашних догадках. Однако он писал так, точно предчувствовал неминуемый свой успех, и знал, что обречен на удачу. Ему не показалось преувеличенным предсказание, что с помощью его гипотезы
«по-видимому, удастся подтвердить справедливость взглядов Планка и Эйнштейна на механизм излучения»
Вот, каков был размах его оптимизма от истолкования Периодического закона химических элементов до подтверждения Квантовой теории!
И снова-тому единственному читателю, к которому он адресовался со своей рукописью, не было нужды разъяснять, на чем зиждилось последнее предсказание. Он, и не стал разъяснять, ограничился приведенной фразой. Но эта фраза должна была, кроме всего прочего, показать, что он может в защиту своей гипотезы ссылаться не только на ее полезность теоретический опыт Планка и Эйнштейна призывался в свидетели ее добропорядочности.
В самом деле родившееся двенадцать лет назад представление о квантах содержало в точности такую же гипотезу. Планк назвал ее рабочей гипотезой, а Эйнштейн объявил реальной закономерностью. Или, по-другому Планк ввел ее, как вынужденную причуду теории, а Эйнштейн понял, как неизбежную причуду природы.
Квантам света предлагалось быть одноцветными каждый мог являть собою порцию излучения только, какой-нибудь одной частоты электромагнитных колебаний. И неделимая порция энергии в кванте оказывалась тем значительней, чем выше была частота. «Синий квант» был энергичней (больше) «красного кванта». Ультрафиолетовый - энергичней синего. Рентгеновский - энергичней ультрафиолетового. Словом, между энергией, и частотой излучения квантовая теория установила жесткую связь. Однозначную! И выражалась она математически простенькой формулой:
E = h * V.
(Словами «Е равняется аш-ню», где Е - энергия кванта, v - частота излучения, h - универсальная постоянная Планка).
Это была прямая зависимость - простейшая из возможных. И когда Бор захотел математически записать свою гипотезу о такой же - однозначной - связи между энергией движения электрона (Е), и частотой его обращения вокруг атомного ядра (v), у него из-под пера, естественно, возникла формула-близнец:
Е = К * v.
Внешним или внутренним виделось ему это сходство? Истинным ли было это родство с великой формулой Планка?
Конечно, он не мог не ввести другую постоянную - Л, потому, что, и Е означала у него энергию другого рода - не электромагнитную, и v представляла частоту другого процесса - чисто механического. Но тогда все единодушно полагали, что излучатель электромагнитных волн испускает свет такой именно частоты, с, какой внутри излучателя колеблются или вращаются электрические заряды. Бор против этого еще не возражал, хотя это, и путало ему все карты. Его мысль еще не выросла до такого покушения на авторитет классической теории. Он думал, как все если атом натрия испускает желтый свет, - значит, какой-то электрон обегает в нем ядро с частотою желтого участка спектра электромагнитных колебаний. Это примерно 5 - 1014 колебаний в секунду. Стало быть, и электрон совершает в секунду примерно 500 триллионов оборотов вокруг ядра. В общем, величина v в обеих формулах вроде бы, и вправду устанавливала между ними кровное родство.
Внешнее ли, внутреннее ли, но это сходство формул завораживало. Оно обнадеживало уже само по себе. Казалось еще шаг, и вдобавок к другим обещанным свершениям воочию раскроется физическая картина рождения в атомных глубинах непонятных квантов.
Но он еще не знал, как сделать этот шаг.
РАЗГОВОР С РЕЗЕРФОРДОМ
Сорок девять лет спустя Бор написал в воспоминаниях о Резерфорде:
«В раннюю пору моего пребывания в Манчестере, весной 1912 года, я пришел к убеждению, что строение электронною роя в резерфордовском атоме управляется квантом действия (постоянной Планка h)»
Весной?.. Но ведь только в позднюю, а не раннюю пору своего первого пребывания в Манчестере, на исходе четвертого месяца, 22 июля, закончил он Памятную записку Резерфорду. А лишь в ней эта идея была выражена им впервые, да, и то еще не слишком отчетливо. Скорее своей собственной гипотетической константе К препоручал он тогда командовать кольцами электронов. Правда, она, хоть и не равнялась постоянной Планка, имела сходный с нею физический смысл. Но июль - не весна.
Проще всего счесть утверждение Бора простительной ошибкой памяти, что за важность несколько месяцев рядом с громадой сорока девяти прожитых лет! Вообще-то говоря, и впрямь, что за важность? Но жизнь замечательного исследователя, сумевшего оставить человечеству узелки на память - череду прекрасных открытий и счастливых мыслей, представляется потомкам историей именно этих открытий, и этих мыслей. Она не похожа на равномерно текущий поток. Эта жизнь - как драматическое действо на подмостках истории. Л на подмостках истории акты и антракты постоянно меняются местами акты сокращаются до дней, и месяцев, антракты растягиваются на годы и десятилетия. Говоря лабораторным языком, нет единой цены делений на этой шкале. Для потомков нет, и для современников-тоже. И само историческое лицо, оглядываясь на прожитое, осознает эту неравномерность, наверное, острее нас, зрителей.
И семидесятилетний Бор, рассказывая о Резерфорде, полон был сознания историчности своего манчестерского старта. Это был старт целой эпохи в теоретическом познании микромира. Эго был акт - не антракт. И для верного повествования о том, «как дело происходило», нельзя было не отличить март от июля. Потому-то, когда ему захотелось проследить до самых истоков зарождение квантовой теории атома, он заговорил не вообще о Манчестере, а уточняюще - о ранней поре своего пребывания там.
Но если так, то могло ли быть его утверждение безотчетной ошибкой памяти?
Трудно поверить. Ведь такая ошибка сверх всего означала бы, что он забыл не просто даты (они легко забываются), но существенные события (они забываются с трудом), и волновавшие его ожидания (они не забываются вовсе). Среди прочего он должен был бы забыть о своей Памятной записке Резерфорду. А уж этого никак не допустишь.
Да, он никогда не публиковал ее. Но всегда хранил.
Впрочем, не с самого начала. Детективная деталь, отмеченная Розенфельдом одна полоса из той рукописи - третья по нумерации - успела исчезнуть. Это интересно. Но не потому, что таинственно. (Холмс может, не отвлекаясь, играть на скрипке.) Полоса запропастилась по обыкновенной небрежности к черновикам - не заводить же с молодости архива! Она запропастилась потому, что вначале не было ощущения исторической ценности этого документа. Он ощутил ее только после того, как все надежды, и предсказания, отразившиеся в тезисах той Памятной записки, действительно оправдались - хотя и не совсем так, как он это сперва программировал. Должна была появиться, и прошуметь серия его эпохальных статей 13-го года, объединенных общим названием «О строении атомов и молекул», а затем должен был возникнуть, как всегда запоздалый, интерес «к истории вопроса», чтобы однажды он разыскал в ящиках письменного стола старую рукопись, спрятал уцелевшие полосы в конверт, и бегущим своим почерком вывел на конверте надпись (для собственного ли сведения, для будущих ли историков?):
«Первый набросок соображений, составивших содержание работы «О строении атомов и молекул» (Написан для того, чтобы ознакомить с этими соображениями проф. Резерфорда)
(Июнь, и июль 1912)»
Июнь - июль. Конечно, он живо помнил, как спешил с этим наброском, занося его на бумагу только в последние предотъездные дни. Но ему важнее было задатировать другое весь период созревания первоначального варианта его теории. Этот вариант бесшумно созревал в его мыслях все то время, пока он работал над статьей о торможении альфа-частиц. Эго он и удостоверил июнь - июль.
Так, возможная ошибка Бора в хроноло-1ии сразу сокращается на два месяца, и от нее почти ничего не остается. Даже если была ошибка, говорить больше не о чем. Следствие можно прекратить за малостью вины. Да разве в этом дело?.. Самое любопытное, если в утверждении Бора вообще не было ни малейшей ошибки. Тогда надо предположить, что еще до тезисов Памятной записки, в апреле - мае, то есть действительно «весной 1912 года», у него уже был, какой-то предвариант или идея квантового спасения планетарного атома. А это со всей несомненностью стоило бы расследования.
К сожалению, без реальных шансов на успех. Леон Розенфельд и Эрик Рюдингер искали начало начал - наиболее ранний документированный намек на день, когда Бор впервые заговорил о своем квантовом замысле. И нашли «самое первое указание» в уже знакомой нам открытке Нильса к Харальду - 19 июля:
«Возможно, мне открылось нечто существенное в структуре атома.»
Едва ли от таких знатоков мог спрятаться в архиве Бора, и остаться незамеченным, какой-нибудь более ранний след наметившегося успеха (хотя с архивами и всякое бывает).
Так или иначе, но не торным оказался путь от первоначального - «я пришел к убеждению» (весна 1912) до завершающего - «я хотел бы выразить здесь мою благодарность проф. Резерфорду за доброжелательный, и ободряющий интерес, какой проявлял он к этой работе» (весна 1913). Словом, не быстрым оказался путь от верно угаданного принципа до жизнеспособной теории. И когда 22 июля, за два дня до отъезда из Манчестера, он входил в кабинет-лабораторию шефа с рукописью своей Памятной записки, за плечами у него была только треть этого пути.
Их встреча на том промежуточном финише - тут, как нельзя более кстати этот термин из обихода многодневных гонок - затянулась надолго, и рисуется так.
Бор принес с собою Памятную записку, естественно, затем, чтобы вручить ее адресату. Иначе к чему было пороть спешку в предотъездные дни?! Он рассчитывал завтра, в крайнем случае послезавтра, увидеться с Резерфордом снова, и услышать на дорогу его мнение. Но Резерфорд возразил, что завтра, в крайнем случае послезавтра, уезжает сам - в Лондон, а оттуда в Виндзорский замок. Предстоит дворцовый прием в связи с 250-летием Королевского общества. («Мэри, бедняжка, уже купила мне для этой цели дурацкий цилиндр!») В общем, выбора не было Резерфорд повелел Бору изложить свои идеи незамедлительно - вот у этой черной доски.
Гак получает самое простое объяснение не очень понятный казус дело в том, что рукопись Памятной записки почему-то сохранилась не среди бумаг Резерфорда, а в архиве Бора, хотя написана была, конечно, в одном экземпляре.
...Бор говорил. Резерфорд молчал.
Любого другого он без всякой вежливости давно бы прервал на полуслове «ступайте-ка домой, мой мальчик, и продолжайте думать - от ваших яблок оскомина, они еще не дозрели!» Но с Бором у него всегда все происходило иначе, чем с другими. Отчего-то исчезала разница в четырнадцать лет, и столь же зияющее различие в их положении на иерархической лестнице. Впрочем, для Резерфорда возраст и ранг часто ничего не значили он говорил «мой мальчик» профессору Иву, который был на девять лет старше, и без должной почтительности «ставил на место» даже архиепископа Йоркского. Может быть, высшим человеческим чутьем - первобытным и детским - он чуял в молодом датчанине тихую силу, способную одолеть его собственную громкую силищу. И сознавал бескорыстие этой силы, и чувствовал ее надежность. Он любил подтрунивать над чистыми теоретиками «Они ходят хвост трубой, а мы, экспериментаторы, время от времени заставляем их сызнова поджимать хвосты!» Но на Бора эта ирония не распространялась - ни позже, ни в то время. Когда Резерфорда спрашивали, почему он относится к копенгагенцу совсем по-другому, чем к прочим теоретикам, следовал ответ «Потому, что Бор - это другое». И чтобы выразить покрепче да понаглядней внутреннее отличие Бора от прочих, он неожиданно добавлял «Бор - футболист». И не уточнял, в чем тут соль (к слову сказать, Резерфорд не мог видеть его в Манчестере на футбольном поле). Л соль Пыла в самой нарочитости этакой рекомендации, что за реноме для высоколобого теоретика?! По Резерфорду нравилось, когда, и о нем говорили в таком же ключе, земном, и вещном; «фермер». То было насмешливое самоутверждение мускулистой духовности - веселая игра плоти против бесплотности.
...Бор говорил. Резерфорд молчал.
Он бывал с Бором во сто крат терпеливей, чем с другими. И все-таки Бору запомнилась его нетерпеливость. Впоследствии, в интервью с историками, Бор помянул ее без удовольствия. Ясно, что в тот раз Резерфорд по захотел вникать в математические подробности, а физическими не был удовлетворен. Бор не услышал «ступайте-ка домой, мой мальчик». Но, как в апреле, не услышал, и «Вперед, Христово воинство!» Случись то или другое, он обязательно отметит бы это в письмах к Маргарет, и Харальду, написанных вечером того же дня.
В том, что сказал Резерфорд, прервав наконец монолог Бора, наверняка не было ни хулы, ни похвал. Была критика, и была вера. И уже ставший обычным в его отношениях с датчанином, совершенно не резерфордовский совет - не спешить. Такое впечатление, точно Резерфорду виделись заминированными все теоретические подступы к планетарному атому. Тут была своего рода психологическая травма. Она лежала в подоплеке осторожности новозеландца, и не противоречила его испытанной отваге.
Нужно только представить себе, сколько попыток, как-нибудь оправдать теоретически свою модель Резерфорд предпринял сам! Попытки были отчаянными и потому негласными. За ним водились такие молчаливые посягательства на решение не поддававшихся решению задач. Порой эти посягательства бывали безрассудными в Монреале он тайно пробовал синтезировать радий, пропуская искровой разряд через смесь эманации с гелием! Ему нужен был технический помощник, и лишь потому об этом знал монреальский химик Макинтош. Для теоретических посягательств технический помощник не нужен был, и потому о них не знал никто.
Однако психологические реконструкции не в большой чести у историков науки, хотя она - дело человеческое. И тогдашняя осторожность Резерфорда истолковывается сегодня по-иному - историко-научно он не был идейно подготовлен к квантовому освоению собственной атомной модели.
Охотно или нехотя, это повторяют все.
Л как же быть тогда с его сердитым письмом Вильяму Генри Брэггу после возвращения с 1-го Сольвеевского конгресса?! Стоп г только вспомнить его слова о континентальных физиках, не утруждающих свои головы размышлениями над физическими основами теории Планка.
И как быть с его бдительным интересом к боровским попыткам выстроить квантовый костяк для планетарного атома?! Стоит только заметить, что этот хорошо задокументированный интерес Бор многократно, и благодарно признавал вдохновляющим.
Все осложняется тем, что о «неготовности Резерфорда» обмолвился однажды сам Бор. Жаль, но так уж оно случилось. Однако он, единственный, и обладал относительным правом на это. Буквально - относительным он невольно соотнес свою глубинную теоретическую подготовленность к квантовому прыжку в неизвестность с резерфордовской чисто интуитивной, но плохо оснащенной готовностью, и заключение вывел из такого сравнения. Другого смысла его утверждение не имело. И еще он ведь заговорил об этом в беседе с историками пятьдесят лет спустя, вынужденный их тонкими вопросами к полемической оглядке на прошлое. И, естественно, ему захотелось с предельной рельефностью оттенить особость, и высоту своей позиции теоретика в Манчестере 12-го года.
...Кроме анти резерфордовского совета - «не спешить», Бор услышал вполне резерфордовское напутствие бросить возню со сложными атомными системами, а отдаться простейшей из возможных - водородному атому. (Через полгода, накануне полного успеха, Бор, как образцово воспитанный мальчик, благодарно упомянул в длинном письме к Папе, что исправно следовал его напутствию.)
Прощались они ненадолго, но с полным ритуалом.
Слышится, как шумно желал ему Резерфорд спокойного плавания, счастливого медового месяца, и скорого возвращения. По-отечески обняв за плечи, провожал до порога. И не без удивления ощущал под ладонью упрямую мускулистость датчанина. И говорил, что городская бледность, может быть, к лицу другим теоретикам, но не ему, Бору. Надо отвлечься от письменного стола, погонять мяч, постоять за парусом.
Л у смущенно улыбавшегося Бора руки были, как в школьно-студенческие времена, все в мелу, и папку с обеими рукописями - Памятной запиской, и половиной статьи о торможении - он локтем прижимал к боку, чтобы не замелить и ее. И выглядело это так, точно он никуда не уезжал, а только оставлял на четверть часа аудиторию поскольку прозвучал звонок на перемену.
ВМЕСТЕ С МАРГАРЕТ
В четверг 1 августа 1912 года в Копенгагене состоялось бракосочетание двадцатидвухлетней Маргарет Норлунд, и двадцатисемилетнего Нильса Бора.
Лютеранский пастор в этой церемонии не участвовал.
Молодые вообще не жаждали обычных церемоний. Свадебное застолье. Надо ли? Гостевание родственников и гостевание у родственников. Зачем? Им хотелось избавления от многолюдных обрядов. То громадное, что произошло в их жизни, касалось только их двоих. И единственное, что им нужно было одиночество вдвоем.
Но прежде чем пуститься в свой медовый месяц - свадебное путешествие, они не могли не побывать в Слагельсё. Это само собой разумелось. Однако на сей раз, что-то мешало молодому Бору чувствовать в согласии с пониманием. Через полвека с лишним фру Маргарет рассказывала, улыбаясь прошлому:
«Моя мать любила свадьбы, и ей нравилось, чтобы все происходило заведенным порядком, и поэтому она хотела заранее знать дату нашего приезда, и, как долго мы собираемся пожить дома, и прочее разное в таком роде. А Нильс сказал «Разве в самом деле необходимо знать все это заранее?»
Конечно, это был не тот случай, когда он нуждался в черновиках решения. (Да, и, что за варианты тут могли быть?) Он попросту старался избежать обещаний, чтобы не нарушать их потом. А мягкость не позволяла ему противиться деспотизму родственных обязанностей иначе, как в несмело вопросительной форме. Создавалась видимость проблемы, и открывалась возможность, никого не обижая, поступить по-своему. В доме слагельсского аптекаря ему это удалось, кажется, сразу.
«О свадебном обеде он сказал
- Нам следовало бы подумать, каким поездом мы улизнем от всего этого.
И полюбопытствовал, нельзя ли было бы устроить этот обед пораньше - - не под вечер, а днем. Но моей матери не по душе было приглашать многолюдное общество в дневное время. Кроме того, она рассчитала, что обед продлится три часа. Услышав это, он сказал:
- Как! Неужто вправду можно потратить три часа на обед?! А успеем ли мы на семичасовой паром?»
Можно поручиться - они успели на семичасовой паром.
Через два дня он уже представлял юную миссис Маргарет Бор своей бывшей хозяйке в кембриджском пансионе, миссис Джордж. Да, да, в кембриджском - не манчестерском, это не описка. Он намеренно привез Маргарет туда, откуда почти год назад писал ей об ивах, наполненных ветром, о своих надеждах, и разочарованиях. Мстительные, и неотомщенные мастерски умеют отравлять себе жизнь недобрыми воспоминаниями. А он по складу натуры недобрых чувств к Кембриджу не вынашивал. Напротив, напротив - теперь, когда все дурное кембриджское было далеко позади, все хорошее стало видеться, как единственный в своем роде духовный опыт. Можно ли было не приобщить к этому опыту Маргарет? Их ожидало долгое общее будущее. Ему хотелось сверх того расширить их недолгое общее прошлое. Вернуться рука об руку назад во времени мешали законы природы. Зато пережить вдвоем, хотя бы пунктирно, минувший год их первой разлуки позволяли законы любви. И запланированное в дни помолвки свадебное путешествие по Норвегии они заменили поездкой по Англии.
И вот она словно бы конспектировала «его Англию», начиная с той безвестной лавчонки, где ему внезапно открылось - «я в Кембридже!» И то, что сделалось его внутренним достоянием на Фри Скуллэйн, и в Тринити-колледже - прикосновение к живой, и музейной громаде истории, - теперь становилось, и ее приобретением.
Но не так уж много времени оставалось у них для праздных прогулок по городу, и для визитов. Впереди был Манчестер. Впереди был Резерфорд. Казалось непростительным явиться к нему без завершенного текста статьи о торможении альфа-частиц. Да, и хотелось, чтобы эта статья побыстрей ушла с благословением Резерфорда в редакцию «Философского журнала». И к удивлению миссис Джордж молодой датчанин, совершавший свадебное путешествие, снова разложил на столе, как в прежние дни, научные бумаги. Но, к еще большему ее удивлению, он не уселся за стол - это сделала молодая датчанка, его жена.
Тогда-то они впервые начали трудиться вдвоем.
Но, когда впоследствии Томас Кун заговорил об этом с фру Маргарет слишком прямолинейно звучащими словами «Вы начали работать вместе с профессором Бором.», она с улыбкой возразила:
«Я не работала с ним. Я была только его машинисткой - я записывала за ним»
Она преуменьшала свою роль из боязни, чтобы другие ее не преувеличили.
12 августа они уже гуляли, взявшись за руки (как на позднейшей фотографии, где они, шестидесятилетние, идут, будто дети, по тисвильской поляне), взявшись за руки, гуляли они по центральной магистрали Манчестера, о которой кто-то сказал, что это была в те времена самая оживленная улица Европы. И Маргарет могла сразу оценить, в, какой деятельной атмосфере жил здесь ее Нильс, и от, какой суеты уединялся в Хьюм-Холле. А когда в последующие часы, и дни она увидела, как трясет ему руку долговязый Дарвин, как доверчиво смотрит ему в глаза тонколицый Хевеши, как внимающе вслушивается в его неловкую английскую речь сам Резерфорд, она сумела оценить, и атмосферу поощряющего признания, окружавшую его здесь.
А манчестерцы, в свой черед, сумели тотчас оценить ее. И ее излучения.
Рассказывали, что Резерфорд был совершенно покорен приветливой красотой, естественностью, и складом ума Маргарет Бор. В духе своей порывистой непосредственности он попросту не отходил от нее с той минуты, как молодая чета перешагнула порог его профессорского дома на Уилмслоу-роуд. Даже громоздкая галантность появилась в его манерах. И Мэри Резерфорд с той же первой минуты распространила на нее свою материнскую благожелательность к Бору.
...Потом была Шотландия - до сентября.
Две недели полной праздности среди гор, и туманов.
Они знавали туманы над низинами Дании. Но никогда не видели облака под ногами. Так мало еще прожито было ими. Так много неизведанного берегла еще для них впереди земля. Земля, и история.