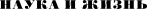Со временем я приспособился ходить галсами. Выйдя из дома, я обычно правым галсом иду до эстакады, потом закладываю левый контргалс до радиомачты и потом снова правым галсом выхожу к мусорной волокуше. На последнем участке — от волокуши до кают-компании — приходится все-таки идти курсом «вмордувинд», и тут я применяю некоторую хитрость. Отдохнув несколько минут перед волокушей, набираю в легкие воздух, зажмуриваю глаза и бегом бросаюсь вперед, пока не натыкаюсь на леер, протянутый перед входом в тамбур. Если ветер не больше тридцати метров, этот трюк вполне проходит.
При ветре в сорок метров не помогают уже никакие ухищрения. В этом случае есть только один способ: ухватиться за леер или за столб, повернуться спиной к ветру и выжидать, пока наступит сравнительное затишье между двумя порывами, чтобы за эти секунды пройти вперед до следующего предмета, около которого можно удержаться.
За три недели пейзаж в Мирном изменился до неузнаваемости. Пятна мазута, проталины, разбитые ящики и старые бочки бесследно исчезли под белым и твердым, как мрамор, пластом снега. Занесло крыши склада и кают-компании, которые мы с таким трудом расчищали.
Дом радистов, наполовину возвышавшийся над снегом, тоже занесло, но крыша еще видна, и радисты, привыкшие жить с комфортом, устроили себе шикарный вход. Вместо люка они вделали в крышу целую дверь, положенную плашмя. Это, конечно, удобно, но небезопасно: при сильном ветре дверь захлопывается с такой силой, что может расплющить человека, как муху. И когда я прихожу к радистам, то стараюсь как можно быстрей проскочить это устройство.
Надстройка над нашим домом с честью выдерживает напор пурги. Строители придали ей удачную аэродинамическую форму, сделав крышу с небольшим наклоном в сторону ветра, и снег проносится над ней, не задерживаясь. Зато на чердаке у нас сугробы чуть не до самого потолка. Дело в том, что у нашей входной двери нет щеколды. Дверь открывается наружу, и, казалось бы, во время пурги ветер должен только крепче прижимать ее к косяку. Все, однако, получается наоборот: при резком порыве ветра дверь распахивается настежь и потом захлопывается с оглушительным треском: при этом на чердак успевает влететь несколько кубометров снега.
Ничего не поделаешь, намертво привязываем дверь канатом, а ходить в дом начинаем, как все нормальные люди, через крышу.
Работа
После пурги Мирный похож на растревоженный муравейник: все его обитатели выползают на поверхность и копошатся у своих домов, раскапывая двери и люки, приводя в порядок все, что повреждено ветром. Работы достаточно: у одних сломало фанерный щит, стоявший перед входом, у других повредило антенну, у третьих начисто замело ящики с оборудованием, которые не успели вовремя затащить в дом.
У моего соседа Юры Ривина унесло доски, приготовленные для ремонта павильона. Придется завозить их заново с Морены. Когда метеорологи обещают ветер не больше 10 метров, Юра отправляется туда с трактором и волокушей, прихватив меня для помощи.
Мореной зовется полоса берегового ледника, расположенная за сопкой Моренной. Это задний двор Мирного, где сложены вещи, которые из-за своей громоздкости не помещаются на складе.
Наш тракторист, тоже Юра, подводит волокушу к штабелю досок, который занесен только наполовину. Взобравшись на штабель, мы берем верхнюю доску и с размаху кидаем ее на волокушу. Однако, к нашему удивлению, доска летит не вниз, а мимо волокуши, куда-то в сторону.
Оказывается, десять метров в секунду — это не такой уж пустяковый ветер, и теперь мы наказаны за то, что не отнеслись к нему с должной почтительностью. Мы рассчитывали, что кончим всю работу за час, и довольно легко одеты; в матерчатые штормовые куртки и кожаные сапоги. Ни за час, ни за два, ни за три мы работу не кончаем. Доски смерзлись и с трудом отдираются, руки в залубеневших перчатках плохо нас слушаются, кожаные подметки сапог скользят по твердому насту, и мы поминутно падаем. Голове жарко под капюшоном, а пояснице холодно от задувающего ветра...
Мы приезжаем в Мирный к концу обеда, измотанные и замерзшие.
— Вот так и занимаюсь «научной работой» уже третий месяц,— говорит мне Юра, когда мы сбрасываем доски у его павильона. И я начинаю понимать, почему космик и сейсмолог считаются с отряде пижонами. Наша аппаратура стоит в доме — ветер ее не унесет и снег не засыпает.
***
В моем хозяйстве две установки. Обычно, когда в наш дом приходят гости и просят показать «космические лучи», я веду их сначала в дальнюю комнату, где из парафиновых блоков сложено сооружение, похожее на гробницу.
— Это нейтронный монитор,— говорю я. Гости понимающе кивают головами, и мы переходим в соседнюю комнату, где стоит фоторегистратор и пульт управления монитором. Пульт с множеством ручек и циферблатов, с мигающими лампочками и пощелкивающими механическими счетчиками гораздо больше заинтересовывает гостей.
— Эти щелчки, — поясняю я, — отсчитывают частицы, летящие к нам из космоса. При каждом щелчке, кстати, через каждого из нас пролетает примерно сотня частиц.
Гости начинают беспокойно оглядываться и подвигаться к двери с явным намерением поскорее смыться, но я безжалостно веду их дальше.
В самой большой комнате на массивном черном треножнике возвышается стальной шар примерно в метр диаметром, от которого во все стороны отходят кабели и провода. Все вместе сильно напоминает марсианскую машину Уэллса.
— Ионизационная камера, — сообщаю я. — Считает полный поток частиц.
Здесь нервы посетителей не выдерживают, и они поспешно начинают прощаться. Уходят, полные почтения к моим приборам.
Мои повседневные обязанности несложны, хотя и достаточно хлопотны. Четыре-пять раз в сутки я должен делать «срок» — списывать показания приборов монитора и камеры и, если надо, регулировать приборы; раз в сутки — менять ленту барографа, заводить часы (их у меня несколько) и сверять их с сигналами точного времени; раз в неделю проявлять ленты с монитора и немного реже — с камеры. В промежутках между «сроками» и проявками мне нужно размечать и просматривать ленты и проводить предварительную обработку результатов. В оставшееся время я могу заниматься «наукой», то есть более глубоким осмысливанием того, что я получил.
Из всех обязанностей наименее приятная для меня проявка. Для проявки имеется бачок, в котором пленка должна непрерывно перематываться с одной катушки на другую. Заводу, выпускающему бачок, наверное, ничего не стоило бы поставить на него моторчик, который бы крутил катушки. Моторчика, однако, нет, и я течение двух часов кручу ручки то вправо, то влево. Первое время эта работа изводила меня своей тупостью, но потом я приспособился читать за этим занятием и, проявляя те полторы тысячи метров пленки, которые составляли мою годовую норму, почерпнул немало книжной мудрости.
Зато сверять хронометр мне доставляет истинное удовольствие.
За семнадцать минут до семи вечера я включаю приемник. Станция, передающая сигналы точного времени, расположена где-то на Гавайях и на шкале приемника помечена карандашной черточкой. Я слегка поворачиваю ручку настройки, пока сквозь шум и треск помех в наушниках не возникает бархатный мужской голос, который с изысканным лондонским акцентом сообщает позывные станции, час и минуту. В момент подачи сигнала я щелкаю кнопкой секундомера и затем, держа в ладонях совершенно точное время, иду в соседнюю комнату. Большой морской хронометр, заключенный в две шкатулки красного дерева, стоит на стеллаже около ионизационной камеры. Я отпираю замки, откидываю крышки и, выждав, когда секундная стрелка завершит оборот, записываю в специальный журнал разницу хода. Потом я достаю из особого отделения шкатулки ключ, такой же солидным и массивный, как и весь механизм, вставляю его в гнездо и поворачиваю ровно на семь с половиной оборотов. Убедившись, что пружина заведена правильно и разница хода не превышает допустимого предела, я прячу ключ, закрываю шкатулки и запираю замки. Когда я совершаю эти действия неторопливо и размеренно, в строго определенной последовательности, я чувствую, что исполняю древнюю и почетную обязанность Хранителя Времени, отвечающего за правильность восходов и закатов, зим и лет, приливов и отливов — всего порядка, на котором держится мир.
***
В магнитный павильон, где работает Веня, посторонним вход строго запрещен. И павильон окружен атмосферой некоторой загадочности. На столбе перед входом в павильон, словно предупреждающий знак, висит красный огнетушитель. Висит он снаружи, а не внутри потому, что в павильоне не должно быть никаких железных предметов. Все строение собрано на медных гвоздях, лампочки и патроны имеют латунные цоколи, и даже лопата, которой Веня раскапывает вход, сделана из дюраля.
Перед тем как войти в павильон, мы тщательно вытряхиваем из карманов железные предметы, даже металлические пуговицы и канцелярские скрепки.
Внутри павильона атмосфера таинственности еще усиливается. Большая комната, внутри которой встроена еще одна комната, так что ее стены со всех четырех сторон отделены проходами от наружных стен павильона. Это — помещение магнитометров. Сюда имеет право входить только магнитолог и то на несколько минут в сутки — сменить фотоленту.
Я уговариваю Веню разрешить мне хотя бы одним глазом посмотреть на магнитометры. Погасив свет и оставив одну красную лампу, чтобы не засветить фотоленту, он с величайшей осторожностью отпирает дверь...
В пустом квадратном помещении на каменных постаментах стоят три круглых черных прибора. В чреве каждого из них поблескивает зеркальце. Тонкие лучики света тянутся от зеркалец в противоположный конец комнаты, где стоят барабаны с фотолентой. Медленно, незаметно для глаза, поворачиваются барабаны, и дрожащие лучики выписывают на них зубчатые линии — следы космических бурь, разыгрывающихся за десятки тысяч километров отсюда.
Красный полумрак помещения, магнитометры, возвышающиеся на постаментах, словно трехногие божки,— это похоже на какое-то языческое святилище.
***br>
С Юрой у меня меньше деловых контактов, если не считать помощи по части столбов и досок. Так, однако, продолжается до тех пор, пока он не получает травму — первую в экспедиции. Полез под стол за упавшей туда кассетой кинокамеры и подвернул ногу. Несмотря на анекдотичность обстоятельств, колено у него распухло, и он с трудом ковыляет по дому.
Травма травмой, а программа наблюдений не должна прекращаться ни на один день, и мы с Веней берем на себя те Юрины обязанности, которые требуют передвижения: с наступлением темноты открывать зеркала, установленные над камерами, регистрирующими полярные сияния, каждый час проводить визуальные наблюдения, закрывать зеркала с рассветом. Так как я ложусь поздно, мне поручаются последние два пункта. Первый берет себе Веня.
По инструкции я должен выглянуть из люка на несколько секунд — окинуть взглядом небосвод и заметить, в каком районе и какой формы имеются сияния. Но когда я в первый раз осматриваю небо, то так и остаюсь стоять в люке, завороженно глядя вверх, не чувствуя ни холода, на уколов поземки. Над моей головой развертывается картина грандиозного фейерверка. Поодиночке и группами, прямым строем или изогнутыми линиями по всему небу вспыхивают зеленые лучи. Мерцая, они висят несколько минут неподвижно, потом медленно угасают, чтобы дать место новому залпу.
Я словно воочию вижу, как несутся в пустом пространстве потоки космических частиц и, встречая атмосферу Земли, врезаются в нее, как стрелы в щит, замедляясь, теряя свою энергию и заставляя разреженный газ светиться колеблющимся зеленым светом.
Наверное, редко что на Земле может сравниться величественностью с этой картиной. Нам пришлось видеть простор океана, спокойного или изрытого штормом; айсберги, по сравнению с которыми океанский корабль кажется маленькой щепкой; ледяную пустыню, подавляющую своей бескрайностью, но все это отступает перед жутковатым и захватывающим зрелищем полярного сияния. Даже не пылинкой, а ничтожным атомом чувствует себя человек, когда в абсолютной тьме и тишине антарктической ночи возникают над ним эти призрачные лучи, словно сам космос протягивает к нему свои бесплотные пальцы...
Как мало отделяет нас, в сущности, от его бездонных глубин! Мне приходит на память картина космонавта Алексея Леонова: почти все полотно занимает черное пространство с белыми точками звезд, где-то в нижнем углу картины виднеется пепельно-серая поверхность Земли и над ней тонкая, едва заметная голубая полоска атмосферы. Этот тонкий слой газа — все, что защищает жизнь от вечного космического холода и пустоты.
Холод и пустота космоса вверху, холод и пустота Антарктиды внизу... Я вдруг начинаю чувствовать и мороз и обжигающее покалывание поземки и поспешно захлопываю люк.
(Продолжение в следующем номере.)