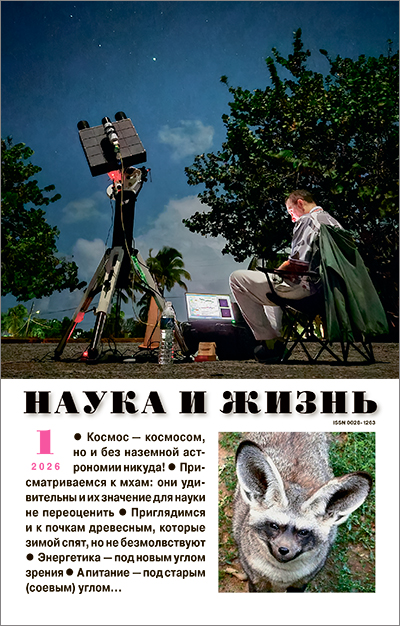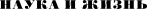«Людям свойственно расширять свой ареал обитания»
3 мая отмечается Международный день астрономии – самой древней науки, позволившей человечеству заглянуть за пределы своей «колыбели». Какие загадки Вселенной волнуют современных астрономов и где проходит грань между фантастикой и наукой – рассуждает доктор физико-математических наук Дмитрий Вибе, заведующий отделом физики эволюции звёзд Института астрономии РАН, профессор РАН.
— Как вы думаете, кто был первым астрономом?
— Люди наблюдали за звёздами «с календарными целями» уже очень давно. Мы имеем свидетельства типа Стоунхэнджа чуть ли не с ранних неолитических времен. Известно, что египтяне определяли по восходу Сириуса приближение разлива Нила. Звёзды не религиозный, а практический интерес привлекали к себе очень давно. Сейчас уже невозможно сказать, кто был первым человеком, обратившим на них внимание. Если говорить об изучении звёзд, о том, чтобы познавать их природу, то довольно долго исследователи на них не обращали внимания: это был просто фон, на котором было удобно отмечать движение планет. Если всё же говорить про звёзды как некие объекты с измеряемыми характеристиками, то из людей, вошедших в историю, можно назвать Гиппарха. Он переписал звёзды, приписал им звездные величины и вообще обратил внимание на то, что они существуют как самостоятельный объект для анализа.
— А кто был первым астрономом, который создал какие-то наблюдательные инструменты?
— Эта тема тоже уходит в века, потому что наблюдательные инструменты, самые простые, это угломерные инструменты, которые тоже применялись в картографических или навигационных целях. Кто первым придумал астролябию или другой угломерный инструмент, сказать невозможно, но они прочно вошли в человеческий быт.
— Если посмотреть на всю историю астрономии, какие открытия вы назвали бы самыми существенными, самыми важными?
— Важность для человечества можно по-разному оценивать. Можно смотреть на какие-то открытия, которые имели практический выход. Можно смотреть на открытия, которые меняли наше мировоззрение. Не буду очень оригинальным, если скажу, что, наверное, самым важным было изобретение телескопа. Это заслуга Галилео Галилея. Подзорную трубу изобрел не он, это было ещё до него. Есть достаточно неопределённые данные, что и на небо, может быть, первым смотрел не он. Но Галилей сделал трубу, провел в неё наблюдение неба и задокументировал эти наблюдения. Он поступил не просто как человек, который глазеет в подзорную трубу, а как учёный: он создал инструмент, воспользовался этим инструментом, проанализировал увиденное и сделал из этого физические выводы. Я думаю, что подобного рывка в астрономии больше не было.
— С тех пор телескопы только совершенствуются?
— Да. Они меняют место установки, расширяют диапазоны – становятся радиотелескопами, гамма-телескопами, появляются детекторы, которые способны ловить что-то, помимо света. Их запускают на орбиту. Со многими из этих инструментов связаны различные прорывы в астрономии. Но такого масштабного, как сделал Галилей, наверное, нет.
— Астрономия – древнейшая наука. Как вы думаете, почему человечество так упрямо стремится вырваться за пределы своей планеты?
— Это вообще свойственно человечеству – пытаться расширить свой ареал обитания. Если мы посмотрим на историю очень древних времён, мы увидим стремление уйти из того места, где ты сейчас находишься, и познать какие-то другие места. Большое количество мореплавателей ничем особо не были мотивированы, кроме желания посмотреть, что там, за горизонтом. Наши более-менее успешные попытки вырваться за пределы Земли – это просто продолжение старых попыток освоить и познать как можно больший объём пространства.
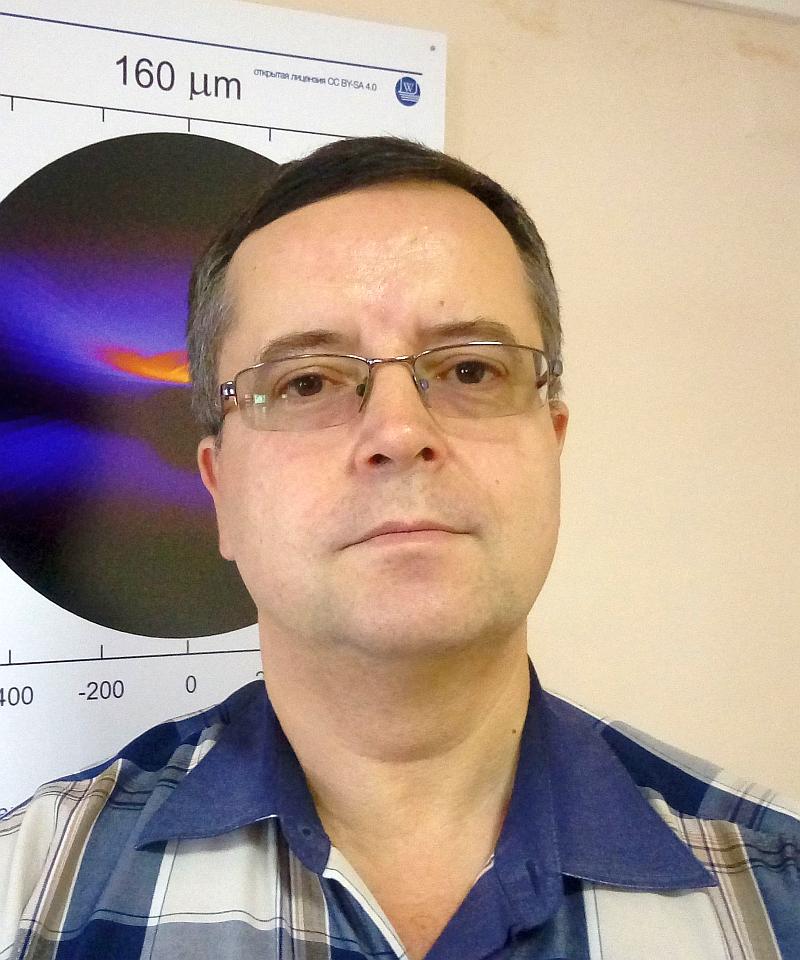
Дмитрий Вибе, доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики эволюции звёзд Института астрономии РАН. Фото из личного архива.
— Недавно вышла очередная новость о том, что на экзо-планете K2-18b уже повторно нашли признаки метилсульфидов. Означает ли это, что там существует инопланетная жизнь?
— Когда появляются такие громкие сообщения, то, чтобы в них разобраться, надо обязательно читать оригинальную статью. Не пресс-релиз, не сообщения в СМИ, а то, что авторы написали в профессиональном журнале, тем более, что сейчас это доступно и без подписки. Конечно, статьи, как правило, на английском языке, но автоматические переводчики творят чудеса. Если мы возьмём оригинальную статью, то увидим там куда более скромные формулировки, в которых не будет слов про то, что «найдена жизнь», что «произошла революция». Коллеги отмечают, что если бы это было что-то революционное, то опубликовали бы это в журнале «Nature», а это было опубликовано в чисто астрономическом журнале. Речь идёт о подтверждении ранее этими же авторами полученного результата. Они в спектре этой планеты уже увидели признаки наличия диметилсульфида, но увидели не очень надёжно. Сейчас при помощи дополнительных наблюдений на другом инструменте они получили несколько более надежные свидетельства того, что в атмосфере планеты присутствует эта молекула.
— И что это означает?
— В общем-то ничего. Потому что у всех биосигнатур, известных на сегодняшний день, есть механизмы небиологического синтеза. Ни один подобный компонент, ни одно подобное соединение не является однозначным свидетельством того, что оно произведено биологическими организмами.
— А какие соединения могли бы стать надежным тому свидетельством?
— Мы таких соединений не знаем. Списки таких соединений мы составляем, оглядываясь вокруг себя и выделяя те молекулы, которые нас окружают, которые появляются в атмосфере Земли за счёт деятельности живых организмов. Это молекулярный кислород, метан, тот же диметилсульфид, другие соединения серы, некоторые учёные предлагают молекулярный азот в качестве биосигнатуры. Набор этих молекул достаточно обширен. Но для каждой из них, включая молекулярный кислород, предлагаются небиологические механизмы синтеза. По большому счету, никакие наблюдения биосингатур нам никогда не дадут внятного и однозначного ответа.
— А что может дать?
— Полёт туда.
— Сейчас планируются миссии в сторону спутников планет-гигантов, где как раз много льда, и есть надежда, что там могут быть обнаружены признаки жизни.
— Я думаю, что какие-то убедительные свидетельства наличия жизни могут быть получены только экспедицией, которая опустится на поверхность, на ту же Европу или Энцелад, проведет бурение и при помощи очень локального анализа что-то выяснит. Конечно, при условии, что жизнь на той же Европе, если есть, то сосредоточена глубоко подо льдом, в подлёдном океане. Можно надеяться на какое-то невероятное стечение обстоятельств, что эта жизнь немного выбирается наружу, и мы попадем в нужное место во время этой посадки. Но, скорее всего, даже на этих относительно близких к нам телах обнаружение жизни будет сложной задачей, сопряженной с полётом, высадкой и детальной работой на поверхности.
— Как вы думаете, если какие-то простейшие организмы будут обнаружены и привезены на Землю, это не может представлять опасность, как нам часто показывают в фантастических фильмах?
— Это вопрос скорее для биологов, чем для астрономов. Насколько я понимаю, чтобы мы могли друг друга принимать в пищу, мы должны быть очень химически похожими друг на друга. А биохимическое устройство живых существ на Земле, даже простейших, очень сложное. Поэтому трудно себе представить, что абсолютно тем же путем эволюция жизни пошла и где-то на других телах. Эпидемиологическая опасность нам, скорее всего, не угрожает. Но если там есть какие-то высокоразвитые хищники, они могут нас есть, даже не догадываясь, что мы не годимся в пищу, и нам от этого не будет легче. Однако шансов на то, что где-то в Солнечной системе есть многоклеточная жизнь, нет никаких. За исключением Земли, конечно.
— Сейчас ведутся поиски землеподобной жизни, похожей на нашу. Но среди профессионалов есть разговоры, что возможна совсем другая жизнь. Академик Лев Зелёный, например, высказывает точку зрения, что на той же Венере возможны абсолютно другие, неуглеродные формы жизни. Что вы думаете по этому поводу?
— Я могу только повторить то, что слышал от биологов: если мы ведём речь о жизни, которая существует примерно в тех же временных шкалах, примерно в тех же физических условиях, то альтернативы углероду нет. Можно фантазировать на эти темы, но при более предметном разговоре оказывается, что у той формы жизни, которую мы сами представляем, – углеродная жизнь на водной основе, – есть множество преимуществ, которые заставляют думать о том, что такое сочетание – это не случайность. Когда мы начинаем предполагать другие принципы, сочетания других химических веществ, это получается что-то либо крайне маловероятное, либо, если совсем уже фантазировать, это могут быть другие временные шкалы, другие пространственные масштабы, и такую жизнь мы можем не заметить, пропустить. Либо потому, что мы живём очень медленно, либо, наоборот, слишком быстро. Или мы её просто не видим, потому что она слишком велика или мала по сравнению с нами. Но это, повторюсь, фантазии.
— Вы не одобряете чистые фантазии без подкрепления научными данными?
— Я одобряю чистые фантазии при условии, что на них крупными буквами написано: «Чистые фантазии».
— Академик Николай Семёнович Кардашёв любил фантазировать о «кротовых норах», которые дадут нам возможность передвижения в пространстве и времени. Тем не менее, он был очень практичный человек, благодаря ему был запущен крупнейший российский космический проект «Радиоастрон». Может быть фантазии о космосе не так и бесполезны?
— С «кротовыми норами» ситуация не кажется мне критичной, потому что это следствие из известных физических уравнений. Это не чистая фантазия. Если мы берём уравнения общей теории относительности, мы из них получаем «кротовые норы», которые так же, как и изначально теоретические чёрные дыры, обладают совершенно конкретными физическими свойствами. И возможность проникновения через «кротовую нору» не фантазия в том смысле, что это следствие известных нам и проверенных законов физики. Другое дело, насколько эти следствия могут реально реализоваться в нашей Вселенной. Это другой вопрос, но называть их чистой фантазией нельзя.
— Какие современные загадки астрономии мы считаете наиболее интересными и требующими разгадки?
— Я думаю, что вряд ли что-то сравнится с загадкой возникновения нашей Вселенной. Тут можно предположить, что каждый астроном назовёт какую-то свою загадку, но понимание того, что мы не разобрались до конца с появлением нашей Вселенной самой по себе, наводит на мысль, что это самая крупная проблема, с которой мы сейчас имеем дело. И это не просто понимание того, как возникла наша Вселенная. Это понимание того, какими законами она управляется. Из этого будет логически вытекать понимание того, как она возникла. Построение «теории всего» – это, наверное, основная наша задача. И вторая загадка – происхождение жизни.
— А тёмная материя, тёмная энергия – это же тоже непонятно?
— Это всё части эволюции Вселенной. Если мы сможем ответить на главный вопрос, то мы поймём и всё остальное.
— А поймём?
— Это сложный вопрос. Процесс познания никогда не закончится. Например, может оказаться, что, понимая законы о возникновении и развитии нашей Вселенной, мы одновременно выйдем на понимание того, что вселенных очень большое количество, и окажется, что мы разобрались только в одной из них. И дальше нам предстоит работа по исследованиям другой вселенной.
— Бесконечная работа по исследованиям бесконечного числа вселенных?
— Да. Это процесс, который не заканчивается. Другое дело, что мы можем потерять к этому интерес.
— Как можно потерять к этому интерес?
— Мы же видим, что каждый следующий шаг и в постижении Вселенной, и в постижении микромира требует от нас всё больших усилий, в том числе всё больших финансовых затрат. И в какой-то момент может оказаться, что деньги закончились. Интерес не иссякнет, а финансы иссякнут – и такое может быть.
— Что вам как астрофизику хотелось бы понять в первую очередь?
— Мне хотелось бы понять, каким образом вследствие астрономических, астрофизических процессов появляется жизнь на планетах. Это, на мой взгляд, чрезвычайно занимательная загадка, которая волнует человечество уже много веков и наверняка будет волновать дальше.