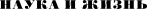У меня растут два внука. Старший, радио инженер, увлекался своими диодами и триодами еще в школе; пока учился, нахватал разных грамот и дипломов. Тем с большим огорчением мы наблюдали за младшим. Учителя жаловались, что он невнимателен на уроках, родители искренне радовались каждой его четверке. Но вот, что-то произошло и Женька увлекся астрономией. И нет мне теперь от него спасения. Он задает массу вопросов, один сложнее другого, уверенный, что дед должен знать все. Я же не могу ответить на большинство. Недавно ему подарили подзорную трубу. Не могу описать его радости и наших тревог ночи напролет внук пропадает на крыше, вперившись в звездное небо. Летом мы собрали его к бабушке на Камчатку, а трубу (она тяжелая) решили не давать. Куда там, скандал! Чего ему делать без трубы, категорически заявил он.
Так я стал свидетелем преображения человека, впервые соприкоснувшегося с ничем не заменимой радостью научного поиска. И, несмотря на опасения за здоровье внука (он у нас не из крепкого десятка), я верю, что этой радости он теперь не изменит никогда.
Когда жажда познания проявляется сильно и с годами не ослабевает, тогда и только тогда рождается настоящий ученый. Потому, что основной стимул для него - интерес к тому, чего он еще не знает. В этом интересе проявляется естественный инстинкт человека. Иван Петрович Павлов считал, что такой интерес существует, в примитивной, разумеется, форме, уже у высших животных и назвал его ориентировочным рефлексом, или рефлексом «что такое?»
Конечно, когда результаты экспериментов не только добавляют новое в копилку общечеловеческих знаний, но, и приносят ощутимую практическую пользу, это служит мощным стимулом в работе. Правда, ученый далеко не всегда знает наперед, что даст обществу то или иное исследование (я не говорю о морально-этическом аспекте развития науки, в последнее время широко обсуждаемом на страницах газет и журналов).
Вот известный пример. Мы чтим Пастера за его работы, положившие начало новой эре в медицине. Но с чего начинал великий французский - даже не медик - химик? С изучения кристаллов кислот правого и левого вращений (в дальнейшем эти его работы привели к возникновению стереохимии). Тысячи людей смотрели в микроскоп на кристаллы и только изощренно наблюдательный глаз Пастера заметил их зеркальность. Он сидел за микроскопом сутками, иголочкой раздвигал кристаллы в разные стороны. И показал, что одно и то же вещество может находиться в двух формах, одна из которых есть зеркальное отображение другой. Разделив и затем растворив кристаллы различных кислот, ученый увидел, что в одном растворе находятся только левовращающие кристаллы, в другом - правовращающие *. А потом выяснил, что в организмах функционирует лишь одна форма, как правило, левая. Возник вопрос почему? Он потянул за собой новые - физические по смыслу, биологические по результатам. Но, как далеки, как фантастически далеки были эти первые шаги великого француза от его последующих знаменитых открытий!
Еще будучи студентом младших курсов Военно-медицинской академии, я впервые попал на Мурманскую биологическую станцию. Океан произвел на меня ни с чем не сравнимое впечатление. Не из книги, не с чьих-нибудь рассказов - собственными глазами я увидел богатство и многообразие морской фауны, различные уровни эволюционного развития организмов, хотя и связанные общностью происхождения от, каких-то примитивных предков. Эти впечатления повернули меня к эволюции, к эволюционной физиологии, а затем и биохимии.
Иван Петрович Павлов поддержал меня. Зимой двадцать третьего года он обратился в Ленинградское общество естествоиспытателей с просьбой создать при Мурманской станции лабораторию сравнительной физиологии. Она начала функционировать летом того же года. Я стал ее организатором и руководителем.
Как раз в это время появилась методика измерения кислотно-щелочного показателя жидкости - pH. Надо ли говорить, что в первом же выходе в море я бросился измерять pH морской воды! Я узнал, что в открытом море эта константа равна 8,3, а чем ближе к берегу, тем вода становится кислее. Я узнал, что морская вода - праматерь нашей крови - имеет слабощелочную реакцию. Тогда я не мог предвидеть, что дадут эти исследования ни теории, ни тем более практике. Я просто узнал нечто для себя новое и, как сейчас помню свою гордость от этого открытия, ни с чем не сравнимую радость (потом, правда, оказалось, что меня опередили датчане).
Дальше уже хотелось понять, что означают эти цифры морская вода щелочная, но была ли она такой в те далекие времена, когда в Мировом океане нашей планеты зарождалась жизнь? Сразу возникло желание измерить кислотно-щелочной показатель внутри морских организмов, появился миллион вопросов и проблем. Так, с пустяка, начались мои исследования формирования внутренней среды живых существ, вплоть до млекопитающих и человека. В эти исследования я вовлек учеников и сотрудников.
Я никогда не мог понять выражения «грызть гранит науки». Сейчас говорят об информационном взрыве. Но и в мои студенческие годы на нас «сыпалось» огромное количество информации стремительно развивались гистология, физиология, биохимия, генетика, науки о ядре клетки. Но мозг, как сухая губка воду, жадно впитывал все новые интереснейшие факты. Может быть, учение дается с трудом той части молодежи, внутренне неготовой к науке, что идет в вузы не за знаниями, которые затем ей предстоит расширять собственными исследованиями, а за образованием, дающим не более чем специальность, скорее даже за документом о высшем образовании, дающим право на ту или иную должность.
С детства я мечтал о море, думал, что буду заниматься морской орнитологией. Еще школьником подрядился работать препаратором в Зоологический музей, хотел научиться делать чучела птиц. Но так получилось, что я поступил в Военно-медицинскую академию и на втором курсе услышал лекции Ивана Петровича Павлова. А спустя некоторое время мне выпал счастливый случай познакомиться с ним.
Шел трудный и голодный восемнадцатый год. На очередной лекции Павлов обратился к нам с такими словами:
- Господа, все годы, что я читаю лекции по физиологии, они сопровождаются демонстрацией опытов на собаках. Теперь собак нет и опытов не будет.
На меня слова ученого произвели удручающее впечатление. «Как же так? - думал я. - Павлов лишен возможности полноценно читать свои замечательные лекции. Ничто не может этого оправдать, и я должен помочь ему!» В тот же вечер я положил в один карман веревку, в другой, какое-то подобие съестного и отправился на поиски. Через несколько дней повеселевший Иван Петрович сказал «Сегодня я буду иллюстрировать лекцию опытом один из ваших товарищей привел собаку»
Потом я привел вторую, третью. Павлов заинтересовался неизвестным помощником, мне передали, что он просит меня зайти. Я не замедлил воспользоваться приглашением. Первым делом Иван Петрович спросил, что побуждает меня ловить собак.
- Ваши лекции, - ответил я и добавил, что сам хотел бы работать в этой области.
- В чем же дело? Начинайте.
Так я пришел в лабораторию Павлова и работал под его руководством вначале студентом, потом адъюнктом, аспирантом, до тех пор, пока Павлов не ушел из академии и его сменил на кафедре Леон Абгарович Орбели.
Во многом они были разными - Павлов и Орбели, а объединяла их исключительная преданность науке, глубочайшая убежденность в том, что она имеет огромное значение для человечества. Этот внутренний стержень укреплял их душевную стойкость, давал силы переносить разочарования, неизбежные в любой деятельности, тяготы и трагедии, выпавшие на их долю.
Невозможно переоценить их влияние на окружающих. Вот лишь один эпизод, невольным свидетелем которого я оказался и который, пусть в незначительной степени, характеризует некоторые черта Ивана Петровича.
Это было, если мне не изменяет память, в конце двадцатых годов. После большого перерыва, вызванного первой мировой войной, революцией и войной гражданской, Павлов участвовал в очередном международном конгрессе физиологов, где выступал с докладом. Спустя некоторое время после его возвращения меня разыскал ученый секретарь академического научно-популярного журнала «Природа». Каролицкий ему хотелось опубликовать в журнале доклад Ивана Петровича. Так не взялся бы я попросить Павлова передать доклад в журнал?
Я передал просьбу Каролицкого Павлову, на, что тот охотно согласился, тем более, что «Физиологический журнал» в ту пору еще не выходил и труды лаборатории не издавались.
Через несколько дней Каролицкий снова звонит мне в большом смущении:
- Не буду вам говорить, как я счастлив и горд, заполучив статью Ивана Петровича, но, видите ли, читая ее, я наткнулся на несколько не очень точных выражений. Их можно понять и так, и эдак.
- Что ж, - ответил я, - обратитесь к Ивану Петровичу.
- Вы понимаете, что советуете? - испугался Каролицкий. - Чтоб я пришел к Павлову и сказал ему, что он неправильно пишет?..
- Тогда печатайте, как есть. В конце концов не вы несете ответственность, а Павлов.
- Это исключено. Я не могу допустить, чтобы наш журнал подвел Ивана Петровича.
Все же пришлось Каролицкому пойти к Павлову. Проходит несколько дней и он снова звонит мне.
- Послушайте, - чуть ли не кричит он в трубку, - я был у Павлова!.. Поначалу он принял меня с явной неохотой я отрывал его от вечерних занятий. «Так в чем дело?» - спросил он, когда мы прошли к нему в кабинет и сели. «Иван Петрович, в вашей статье есть одна фраза, не очень точно написанная» «Покажите», - сухо сказал он. Я показал. «Ну и, что, все ясно» «Не совсем, - вынужден был сказать я. - Вы, очевидно, хотели сказать то-то?» «Да», - ответил он. «А фразу можно понять иначе, вот так, а это неправильно». Иван Петрович подумал и хлопнул себя по лбу «Действительно, ведь верно. Как же быть?» Я предложил ему редакцию фразы, которая исключала иное толкование смысла. «Прекрасно, - обрадовался Иван Петрович, - вы совершенно правы». Тогда я осмелел «Иван Петрович, разрешите, я вам еще одно место покажу?» «Конечно, конечно, - заинтересовался он и, про читав, тут же добавил - Вы, наверное, уже знаете, как и эту фразу исправить? Как я рад, я вам бесконечно благодарен за эту науку. Ведь я много пишу, читаю лекции студентам и, оказывается, допускаю ошибки». Чувствую, он загорелся, от былой холодности не осталось и следа. «Вот вы, какой молодец! Я-то, коренной русак, всю жизнь был убежден, что правильно по-русски пишу, а вот вы, читая незнакомый вам текст, сразу заметили неточности» «Это моя профессия», - оправдываюсь я. «Да, да, но, может быть, еще, что-то есть?»
Мы быстро исправили и третью фразу, а больше претензий к статье у меня не было. Иван Петрович проводил меня в переднюю, подал пальто, на прощание тряс руку и благодарил. Поверьте, Евгений Михайлович, это необыкновенный человек.
Я и не думал с ним спорить. Потому, что уже и тогда знал и теперь знаю, что не многие, даже выдающиеся ученые, отличаются столь малым самомнением, как Иван Петрович.
Орбели завоевал сердца всех, когда в течение ряда лет был председателем физиологических бесед, превратившихся затем в физиологическое общество. Крупные ленинградские ученые - Савич, Лихачев, Введенский, Ухтомский собирались раз в неделю, раз в две недели, чтобы заслушать и обсудить доклады коллег о проделанной работе. Для нас, начинающих исследователей и студентов, это были праздники, которых мы ждали с нетерпением. Председательствовал обычно Леон Абгарович. И какой бы сложности проблема ни обсуждалась, он умел в нескольких словах, с необычайной ясностью объяснить всем, в чем сущность работы, где, и, как было бы правильнее искать ответы на возникшие вопросы. Все становилось на свои места, словно и не было никаких сложностей. В этом умении с ним, пожалуй, никто сравниться не может.
Для Павлова главным в жизни были его научные исследования, он был стопроцентно погружен в них. Леон Абгарович был не только ученым, по, и организатором науки, был связан тысячами нитей с самыми разными людьми. Долгие годы он возглавлял отделение биологии Академии наук СССР, а тогда в нем объединялись физиология, биохимия с биофизикой, цитология, генетика. Долгие годы он был и вице-президентом академии и, хотя он, как любой другой ученый, не мог одинаково хорошо разбираться во всех вопросах, но достаточно быстро и четко понимал, где начинание серьезное, а где халтура. И каждый исследователь, предлагавши» дельную идею, мог рассчитывать на его поддержку.
При этом Орбели не признавал никакого диктата, справедливо полагая, что в науке вполне могут уживаться разные, даже взаимоисключающие точки зрения. В доказательство он любил ссылаться на длительную дискуссию между Павловым и выдающимися английскими физиологами Старлингом и Бейлиссом.
Спор шел о пусковом влиянии на поджелудочную железу. Павлов доказывал, что, поступая в желудок, пища раздражает многочисленные нервные окончания, ветвящиеся в его стенках и рефлекторным путем побуждает железу к выделению сока. Бейлисс и Старлинг показали совсем иной механизм вышедшая под влиянием пищи из стенки желудка соляная кислота всасывается в кишечнике, соединяется с гормоном секретином и приносит его в поджелудочную железу; этот-то гормон и заставляет ее продуцировать поджелудочный сок. Самое любопытное, что Иван Петрович не мог не обратить внимания на подобные факты, иными словами, он сам был на грани открытия этого механизма. Но, увлеченный идеей нервизма, отказывался видеть и соответствующим образом оценить результаты опытов в его лаборатории. Англичане же не соглашались с нервным механизмом секреции поджелудочной железы, тем более, что эксперименты, доказывающие нервное влияние, требовали высочайшей, годами отработанной техники.
Дискуссия была разрешена единственно возможным в науке способом. Иван Петрович направил в Лондон своего ассистента и тот продемонстрировал английским коллегам опыт, доказавший правоту учителя.
В то же самое время Павлов в очередной раз проверяет опыт Старлинга и Бейлисса, убеждаясь в химическом механизме поджелудочной секреции. Так получилось потому, что организм нуждается в обоих механизмах. Нервная регуляция мгновенная. Когда пища попадает в рот и проходит по пищеводу в желудок, требуется, как можно быстрее начать ее переваривание, снабдив ферментами. В кишечнике пищевая масса обрабатывается часами и для более основательной ее переработки надежнее воспользоваться пусть медленным, но зато мощным гормональным механизмом, обеспечивающим химические реакции. Как любил повторять Иван Петрович природа экономна (ничего лишнего), но запаслива.
В данном случае, равно, как и в знаменитом споре Мечникова с Эрлихом, правы оказались обе стороны. Чаще бывает, что кто-то из спорящих ошибается. В этом нет ничего страшного, ничего удивительного наука «та же езда в незнаемое». Но, когда ошибка становится очевидной и доказанной, настоящий ученый честно и мужественно признает свои заблуждения, сколь бы горькими ни были последствия такого признания.
В тридцатом году для изучения сравнительной физиологии и химии мышечного сокращения меня командировали в Лондон и на морскую биологическую станцию в Плимуте. Орбели снабдил меня рекомендательным письмом к товарищу своих молодых лет профессору Арчибальду В. Хиллу.
Во время нашего знакомства он готовил чрезвычайно интересную книгу «Приключения в мире биофизики», объединяя в ней свои лекции, которые должен был читать в турне по Америке. Наука, в частности биофизика, полна всевозможных романтических неожиданностей и Хилл знал в них толк. Надо же было так случиться, что в первый же день нашего знакомства я стал свидетелем редчайшего «приключения», выпавшего на его долю.
За ужином жена передала Хиллу почту, пришедшую за день. Быстро просматривая письма, он дольше задержался на одном и передал его мне. «Прочтите», - сказал он, улыбаясь, как мне показалось, задумчиво и грустно.
Писал крупнейший биохимик Отто Мейерхоф из знаменитого Гейдельбергского университета, соавтор Хилла по их нашумевшим исследованиям. Изучая закономерности различных химических реакций в работающей мышце, они пришли к выводу, что предварительно образующаяся молочная кислота меняет физико-химические параметры в мышце, это-то, и служит пусковым сигналом к ее сокращению. За эту теорию мышечного сокращения они были удостоены Нобелевской премии.
Однако признали теорию не все ученые. Франкфуртский химик Эмбдон, показывая, что молочная кислота образуется не до, а после сокращения мышцы, доказал тем ошибочность этой теории.
И вот теперь Мейерхоф писал Хиллу, что, еще и еще раз проверив возражения Эмбдона, он убедился, что тот прав. До сокращения мышцы начинается распад аденозинтрифосфорной кислоты, молочная же образуется вслед за сокращением и потому не может служить для него пусковым сигналом. «Следовательно дорогой Арчибальд, мы получили Нобелевскую премию незаслуженно!»
К тому времени Хилл уже был готов к такому повороту событий. Он знал об опытах датчанина Лундсгарда, который, парализуя образование молочной кислоты, видел, что мышцы тем не менее продолжают свободно сокращаться. Но все равно момент, согласитесь, трагический. Как же поступил Хилл?
Дождавшись, пока я прочту письмо, он спокойно взял его, сложил, вздохнул и сказав «Да, это так, ничего не поделаешь», - продолжал ужин и беседу, как ни в чем не бывало. А вечером уже готовился к очередной лекции, наговаривая ее на диктофон. (К счастью, хотя авторы признали свою неправоту, Нобелевский комитет посчитал справедливым сохранить премию за ними, учитывая колоссальную важность самих экспериментов.)
В спокойствии, с которым Хилл перенес известие, вынудившее его отказаться от премии, не было ничего показного. Вначале он принял решение Нобелевского комитета, как знак высокой оценки очередного прорыва науки в тайны природы, а затем также из уважения к любимой им науке посчитал естественным сообщить об ошибочном толковании фактов. Понятно, я не обсуждал с ним это драматическое событие, просто другого объяснения, по-моему, и быть не может.
Не могу отказать себе в удовольствии рассказать хотя бы еще об одном эпизоде, связанном с Хиллом. Когда у нас были опубликованы воспоминания Леона Абгаровича, я послал книгу Хиллу, уверенный, что ему будет приятно читать страницы, посвященные пребыванию Орбели в Кембридже в 1909 - 1910 годах. Хилл поблагодарил меня за подарок, но книги не читал, не зная русского языка. Спустя, какое-то время книга попалась на глаза внучке Хилла, читающей по-русски, она-то и познакомила деда с воспоминаниями моего учителя. Хилл не мог примириться с мыслью, что эти замечательные страницы, свидетельствующие об уважении выдающегося русского ученого к его, Хилла, стране, останутся неизвестными коллегам. Он попросил Каролину перевести отрывок на английский язык и под аплодисменты зачитал его на очередном заседании Британского физиологического общества, проходившем в Кембридже. Через несколько месяцев воспоминания Леона Абгаровича были опубликованы в старейшем журнале английских физиологов, репутация которого в научном мире чрезвычайно высока.
Оглядываясь на прожитые годы, я не могу не признать, что мне повезло. Я был знаком со многими выдающимися учеными моего времени. Учился у Павлова и Орбели. Море притягивало меня с детства и многие мои исследования так или иначе связаны с ним. Я плавал в Баренцевом и Черном морях, в Индийском и Тихом океанах. И когда, казалось, все это ушло в прошлое, вот уже совсем недавно меня включили в состав четырнадцатой экспедиции научного судна «Академик Курчатов» - на сей раз в Атлантику, в район так называемого Американского Средиземноморья.
Последнее время меня интересует биохимическая эволюция мозга, отраженная в его липидном, жировом составе. Дело в том, что мозг - это белково-липидное образование, причем в нем содержание жиров больше чем где бы то ни было в организме. И если раньше считалось, что они здесь играют, какую-то второстепенную, резервную роль, то теперь оказалось, что липиды имеют не меньшее значение, чем белки. Из них выстроены все мембраны - клеточные, внутриклеточные, синаптические, а мембраны сегодня - одна из узловых проблем биологии. Мы же, изучая липидный состав мозга, увидели, что самый непостоянный их элемент - это жирные кислоты. От них зависят физико-химические характеристики мембран, а отсюда различия в функциональных проявлениях нейронных ансамблей мозга.
Чтобы подойти к закономерностям распределения жирных кислот в нервных клетках мозга, необходимо исследовать всю эволюционную лестницу - от червей и насекомых до птиц и млекопитающих. В Атлантике задачей моей и моих сотрудников было собрать по возможности большой и разнообразный материал по беспозвоночным и рыбам. Особенно нас интересовали рыбы - обширная группа организмов, населяющих верхние, средние и придонные слои воды. Одни привязаны к неизменным условиям существования, живут только в «рамках» высокого давления или на поверхности, другие свободно перемещаются и приспосабливаются всюду. Откуда же возникли такие различия? Подойти к решению этого вопроса можно, и с позиций биохимии мозга, потому, что любым изменениям органов и функций предшествуют изменения химизма тканей, обмена веществ. Такова одна из задач, стоящих перед Институтом эволюционной физиологии и биохимии имени И. М. Сеченова.
Наш институт - последнее детище Леона Абгаровича. К слову, для меня нет сомнении, что интерес к эволюционному направлению в биологии, который он смог удовлетворить лишь в последние годы жизни, пробудился у него в период работы на Неаполитанской морской биологической станции, где молодым, начинающим исследователем он впервые увидел прекрасный и необозримый мир моря. Когда Орбели после длительного перерыва получил возможность вновь заняться научной деятельностью, когда к нему стали возвращаться ученики и сотрудники, он создал вначале лабораторию эволюционной физиологии, затем реорганизовал лабораторию в институт, торопил строительство нового здания, но войти в него уже не успел. Принял институт замечательный советский физиолог и ближайший ученик Орбели академик Александр Григорьевич Гинецинский, которого сменил на посту директора я. С тех пор прошло пятнадцать лет.
Эволюция затрагивает все системы и все проявления организма. Поэтому среди сотрудников нашего института представлены едва ли не все биологические специальности. Мы изучаем нервную систему, эволюцию ее структуры, функции и биохимической организации, работу почки, мышечного аппарата. И все время спрашиваем себя и свои объекты, как сложились современные формы, как они достигли столь высокой степени развития? Объекты и методы исследования в лабораториях института разные, а идея, конечная цель одна, как можно глубже понять законы эволюции.
Объединяющая идея необходима для успешной работы коллектива ученых, будь то весь институт или любая из его лабораторий. Не знаю, было ли так всегда, но сегодня научный поиск должен вестись единым фронтом. Один сильнее, другой слабее, это естественно. Но если кого-то не удовлетворяет общая задача, он должен либо иметь за душой свою достаточно плодотворную идею, из которой вырастет побег не менее интересного направления, либо уйти из лаборатории. В противном случае такой сотрудник становится инородным телом и тормозом на общем пути.
Бывают ситуации более сложные, где необходимым становится «хирургическое вмешательство». И тут надо действовать осторожно, осмотрительно, ибо дело касается и интересов науки и живых людей.
Подобные конфликты нередки в таких крупных научных коллективах, каким считается наш институт. Начинали мы - нас было восемьдесят, теперь в институте около пятисот сотрудников. Дальше расти вредно большой коллектив теряет способность быть управляемым. Л жизнь заставляет создавать новые лаборатории чем больше мы изучаем и узнаем, тем больше вопросов возникает, один заманчивее другого. Что же делать? Сокращать утратившие свое значение лаборатории? Но это то же самое, что резать по живому и необходимо, и болезненно.
Как ни странно, мы сталкиваемся при этом, и с другой проблемой. Новая идея требует сильного руководителя. Однако, хотя сегодня университеты и другие вузы заканчивают тысячи, самые талантливые остаются на кафедрах у своих учителей. Это естественно. Но, и научно-исследовательским институтам нужны не просто работники, не просто исполнители - в них недостатка нет, - требуются люди, одержимые идеей. Лицо института определяют заведующие лабораториями. Пусть даже такой человек не интересуется эволюцией, если говорить применительно к нашему институту. Эта идея настолько заманчива, что рано или поздно овладеет мыслью исследователя.
Так, несколько лет назад пришел к нам Александр Иванович Шаповалов, изучающий физиологию нервной клетки. Прекрасно, согласились мы, занимайтесь нейроном, в свое время вы сами заинтересуетесь эволюционной проблемой. Вот, в частности может быть, эволюционирует не сама нервная клетка, а система нейронов, их ансамбль, по должно быть, что-то, что определяет развитие мозга. Три-четыре года в работах Шаповалова не было ничего эволюционного, но мы не торопили его, терпеливо ждали. Сегодня его лаборатория - одна из ведущих в институте.
Есть на Камчатке озеро Дальнее, на биологической станции которого лет тридцать работают два доктора наук - ихтиолог и гидробиолог. Они изучают экологию рыбы красной, она заходит в озеро нереститься, а в дальнейшем «скатывается» из озера и погибает. Своей проблемой камчадалы увлекли Володю Меншуткина, молодого математика, доклад которого они услышали на одной из конференций в Минске (кстати, сам он ленинградец, что дальше сослужило мне отличную службу). Меншуткин поехал на Камчатку и разработал на основе биологических данных математическую модель экологической системы озера Дальнего (за пес все трое были удостоены Государственной премии).
Сманил его я, познакомившись с ним на Камчатке. Мы много гуляли, беседовали, и я понял, какого ценного работника в его лице может приобрести эволюционная идея. Потому, что большинство проблем, которыми мы занимаемся, нуждается в применении математического аппарата. Без него их трудно описать, трудно моделировать, предсказывать пути развития. Приглашая Меншуткина, я обещал ему полную свободу в выборе тем - знал, что в любом случае это будет полезно и для него, и для нашего общего дела. Он согласился, прошел по конкурсу, получил группу. И сегодня нет, пожалуй, ни одной лаборатории, с работой которой так или иначе не смыкалась бы работа математиков. Деятельность нейрона, на котором сидят тысячи синапсов, механизм взлета насекомых, проблемы океана (совместно с Институтом океанологии Академии наук СССР), камчатских озер и в то же время методы очистки Херсонской бухты - вот далеко не полный спектр приложений, с которыми пришел к нам Владимир Васильевич Меншуткин.
Скажем, такая проблема мозговое кровообращение в разных условиях существования организма, вплоть до ускорений и невесомости. Регуляция его очень сложна, здесь надо учесть количество крови, протекающей в сосудах и давление в них, скорость кровотока, интенсивность обмена и многие другие параметры. Без математического аппарата свести их в единую систему не удавалось. Группа Меншуткина в содружестве с группой Ю. Е. Москаленко разработала модель и проверила с ее помощью различные факторы, влияющие на кровообращение. Модель помогла обнаружить разночтение с оценкой результатов экспериментальных наблюдении на живых объектах. Дальнейший анализ показал, что физиологи не предусмотрели в опыте очень существенный параметр.
В лаборатории водно-солевого обмена, руководимой Ю. В. Наточиным, изучаются функции почки. Известно, что в начальных участках почечных канальцев, где образуется первичная моча, идет фильтрация вещества из крови, а затем, по ходу, необходимые организму вещества всасываются обратно в кровь. Иными словами, в разных участках этих канальцев протекают разнонаправленные процессы и работают разные механизмы. Описать их словами можно, это, кстати, сделано, по количественно оцепить нельзя, даже с помощью арифмометра. Необходима математическая модель, построенная на конкретных данных физиологии, биохимии и биофизики и дальнейшее изучение ее на электронных вычислительных машинах. Пользуясь ими, можно не только изучать, но и предсказывать, как в тех или иных условиях будет функционировать здоровая и больная почка.
К слову, совместно с Институтом физиологии имени И. П. Павлова мы создали вычислительный центр в Колтушах, отдельные задания для нас выполняет и Ленинградский вычислительный центр. Однако уже сегодня нам ясно, что пора создавать свой собственный - работы для него найдется предостаточно.
За годы, проведенные в институте, Меншуткин, Шаповалов, Наточин и многие другие, о которых здесь я не сказал ни слова, выросли в ученых, работы которых цитируют советские и зарубежные авторы, и я рад, что приложил к этому руку. Увы, в поисках таких сотрудников успех сопутствует мне далеко не всегда. Скажем, я давно уже хочу организовать лабораторию эволюционной морфологии мозга, а найти для нее заведующего не могу до сих пор. С подобной сложностью сталкиваются все научно-исследовательские институты, наш не исключение.
Ни я, ни мои коллеги не знаем, к чему приведут многие наши исследования, то же изучение механизма взлета насекомых, адаптации, липидного разнообразия мозга. Знаем только, что нам это крайне интересно и представляется чрезвычайно важным. Потому, что накопление и совершенствование общечеловеческих знаний рано или позже находит выход в практику и оборачивается несомненной пользой для человека, для нашей Родины.