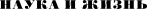— Фазли, понятно, что любой области приходится бороться за ресурсы, когда их мало. Но нужна ли науке реклама в таком высокотехнологичном, обеспеченном обществе, как США?
— В Америке реклама науки считается очень важным занятием на всех уровнях. Заведующий лабораторией добывает деньги, рекламируя свои результаты в среде коллег или пошире — в среде людей, которые понимают предмет. Такая «реклама среди специалистов» приносит лаборатории гранты. Но если подняться чуть выше, на уровень факультета или университета, то окажется, что декан и ректор занимаются добыванием денег абсолютно так же, как какая-нибудь коммерческая компания. Факультет и тем более университет уже не могут рассчитывать на гранты. Они получают деньги в большей или меньшей степени от благотворителей: от людей, которые жертвуют. Это не гранты, это подарки. Здесь уже не обойтись без серьёзной работы с обществом.
У необходимости рекламировать науку есть важная обратная сторона: каждый американский учёный непрерывно, с первых шагов и всегда, учится излагать свои мысли внятно и популярно. В России традиции быть понятными у учёных нет. Как пример я люблю приводить двух великих физиков: русского Ландау и американца Фейнмана. Каждый написал многотомный учебник по физике. Первый — знаменитый «Ландау—Лифшиц», второй — «Лекции по физике». Так вот, «Ландау—Лифшиц» прекрасный справочник, но представляет собой полное издевательство над читателем. Это типичный памятник автору, который был, мягко говоря, малоприятным человеком. Он излагает то, что излагает, абсолютно пренебрегая своим читателем и даже издеваясь над ним. А у нас целые поколения выросли на этой книге, и считается, что всё нормально, кто справился, тот молодец. Когда я столкнулся с «Лекциями по физике» Фейнмана, я просто обалдел: оказывается, можно по-человечески разговаривать со своими коллегами, со студентами, с аспирантами. Учебник Ландау — пример того, как устроена у нас вся наука. Берёшь текст русской статьи, читаешь с самого начала и ничего не можешь понять, а иногда сомневаешься, понимает ли автор сам себя. Конечно, крупицы осмысленного и разумного и оттуда можно вынуть. Но автор явно считает, что это твоя работа — их оттуда извлечь. Не потому, что он не хочет быть понятым, а потому, что его не научили правильно писать. Не учат у нас человека ни писать, ни говорить понятно, это считается неважным.
Американский учёный с самого начала должен быть публичен. Должен «продавать» свои результаты. Звучит не очень хорошо, но это жизнь. Не умеешь продавать — извини, какой бы гениальный ты ни был. Ищи спонсора, который будет любить тебя как брата или друга и, как брат Ван-Гога, платить за твоё существование, независимо от того, что ты делаешь. Это, конечно, недостаток системы. Хорошо бы гениев пестовать и любить, а не заставлять торговать своей гениальностью. Но как узнать, кто гений, а кто не гений? Американская система в этом смысле тупа: если ты гений, докажи это сам. Они не делают ставки на тех, кто умён, но не готов доказывать и объяснять. Этот импульс — продвигать, доказывать и объяснять — ощутим на всех уровнях. Университеты и выше, научные общества — то же Биофизическое общество, в котором я состою, или Общество клеточной биологии, — на своих симпозиумах прямо ставят вопрос: как нам лоббировать нашу область? С кем из конгрессменов мы должны работать, как и куда мы должны писать, какие мы должны предпринять шаги, чтобы публика знала, что мы занимаемся очень важным делом, и давала на это деньги?
— И никакого разделения труда — например, один мастер по лоббированию, другой сидит и думает?
— Разделение происходит так: если ты не склонен к этой деятельности, ты не будешь лезть в руководящие органы. Сиди профессором в своей лаборатории и получай гранты, для которых, впрочем, тоже нужно себя немножко рекламировать. А если склонен, пойдёшь вверх, станешь президентом какого-нибудь общества, попадёшь работать в соответствующие структуры.
— Гранты и подарки — вот и все источники денег, на которые живёт американская наука?
— Есть три вида денег: федеральные гранты, гранты обществ (как бы частные, но тоже гранты) и подарки. Подарки в основном исходят от бывших учеников. Если у тебя есть какие-то чувства к своему университету, ты под старость завещаешь ему деньги. Ещё один очень мощный источник подарков — благодарные пациенты. Это в основном касается медицинских школ, они исключительно богаты. Мне довелось читать лекцию в клинике Maйo. Это гигантская градообразующая клиника, которая расположена в маленьком городишке, там живёт всего около тридцати тысяч человек. И вот в этом городишке построен международный аэропорт самого высокого класса, с таможней, со всем необходимым, куда садятся самолёты из любых стран мира. В клинике лечатся арабские шейхи, бразильские магнаты, которым бывает нужно в любой момент, в любое время суток немедленно попасть к своему врачу. Город живёт на науке. Это хороший пример того, как наука влияет на то, что происходит вокруг. Думаю, американская наука в целом устроена именно так: она продаёт не просто себя, а всю свою страну. Сегодня американцы дороги не метут, сапоги не тачают, даже телевизоры не собирают, за них это делает весь остальной мир. А что же делают американцы? Самая богатая страна в мире? Они объяснили, в первую очередь самим себе, а заодно и всему миру, что они — мозг планеты. Они изобретают. «Мы придумываем продукты, а вы их делайте. В том числе и для нас». Это прекрасно работает, поэтому они очень ценят науку.
— Но ведь американская наука живёт на «импортированных мозгах»?
— А моя лаборатория на чём живёт здесь, в Москве? Я высасываю мозги из всей России, используя те инструменты, которые есть в моём распоряжении: немножко Московский университет, немножко Физтех. В науке работает отбор, он идёт во всём мире. Прирождённые учёные рождаются везде, в том числе и в Америке: совершенно свихнутые ребята, которые, кроме, скажем, физики, ничем заниматься не могут. В Америке живёт 250 миллионов человек. В России около 150 миллионов, поэтому вероятность, что в России родится такой человек, примерно сопоставимая. А в Китае живёт полтора миллиарда, поэтому там таких должно родиться в десять раз больше. Американцы собирают их к себе просто потому, что Америка — единственное место, где эти ребята могут реализоваться, безотносительно к той системе обучения, которую они прошли. Миф о том, что российская система образования до сих пор является замечательно хорошей...
— Ту, которая есть сейчас, никто уже не защищает. С ностальгией вспоминают ту, которая была. С её спецшколами, с её интернатами для выращивания молодых талантов...
— Тоже миф. Конечно, если взять среднюю американскую школу, это будет полный отстой. Но в Америке есть и элитные школы, очень хорошие. Поэтому не надо думать, что американцы не умеют учить. Прекрасно умеют. Но не всех. И ещё один миф: что школьное обучение играет сколько-нибудь решающую роль в появлении учёного. Из личного опыта: я до восьмого класса учился в посёлке, который в переводе на русский назывался Пятница, — далеко на периферии Советского Союза, в Узбекистане. Маленький посёлок под Самаркандом, куда моих родителей распределили после мединститута: три, наверное, врача было в местной больничке и несколько сестёр, они всё делали вместе. Такая же там была и школа: три учителя на всех. Ну и чему я там мог особенному научиться? Но я поступил после школы в Московский университет, при конкурсе 25 человек на место, потому что ничего другого себе помыслить не мог. Я был совершенно дикий человек, но способный. Когда я признался, что еду в Московский университет учиться физике, учительница математики всплеснула руками и сказала: «Что ж ты мне раньше не сказал? Я бы тебе дала книжку». Книжкой был сборник конкурсных задач, я не знал о том, что такое вообще существует. Учебники нам в школе выдавали, а других книжек я просто не знал. Сел в поезд, ехал четверо суток до Москвы (самолётом дорого было) и решал задачи. Я не исключение, а в каком-то смысле типичный случай: такие ребятишки постоянно приходят и будут приходить из всей России и шире, пока ещё, слава богу, студенты бывшего Советского Союза не должны платить за обучение.
— А какие должны быть вообще источники информации, какая-то информационная инфраструктура нужна «таким ребятишкам», чтобы им было легче состояться как учёным?
— Наука переходит из рук в руки в основном через прямой контакт. Классным учёным одарённый молодой человек сможет стать, только работая рядом с классными учёными. Иначе он не наберёт высоту, какие бы книжки ему ни давали. Поэтому главный инструмент, с помощью которого американцы растят свою науку, — мощные, высочайшего уровня лаборатории. В Америке понимают, что лаборатория — это главное. Всё остальное тоже есть: тесты, отборы, олимпиады, экскурсии, но это впридачу. Возьмите, например, университет штата Пенсильвания. В нём есть медицинская школа, вторая в США по значению. Она берёт к себе на работу выдающихся учёных, самых лучших, каких только может найти. Устраивает безумные конкурсы. Но взяв человека, эта медицинская школа, как вы думаете, сколько требует от него педагогической деятельности? Сколько времени профессор, который получил лабораторию в этой медицинской школе, должен преподавать? 10 часов в год! Всего лишь. Студенты обучаются, прежде всего, за счёт того, что крутятся здесь, в лаборатории, где работают такие профессора, высококлассные и незамученные, у которых одна задача — делать науку максимально высоким образом. Профессор работает — молодец. Хорошо работает — вдвойне молодец.
— Хорошо — это как?
— Он должен давать очень высокого уровня статьи. В очень высокого уровня журналах. С этим исключительно строго. Если ты не публикуешь серьёзных работ в серьёзных изданиях, с тобой быстро расстанутся. Но преподавать, если не хочешь — не надо, можно и от этих 10 часов отказаться.
— Как же они «высасывают мозги» из собственного общества при таких запредельных ценах на образование?
— Легко. Они помешаны на рейтингах. Если студент в рейтинге первый или второй, ему самому будут платить за то, что он там учится. Если ученик в школе в своём классе первый, он попадает на олимпиады, становится первым там и так далее. Когда он доходит до какого-то уровня и на нём попадает в слой лидеров, уже стоит наготове множество обществ, большинство из них частные, не государственные, которые хотят дать ему стипендию, такую, чтобы он мог совершенно спокойно жить и учиться, ни о чём, кроме науки, не думая.
— То есть «мозги» — это изначально товар?
— Абсолютный товар! Очень ценный.
— А российских студентов в вашей лаборатории что мотивирует?
— Был период, когда наша лаборатория служила хорошим трамплином, с которого можно было впрыгнуть в какую-нибудь приличную западную. Сейчас это проходит. Но даже и в тот период всё равно были люди, которые приходили просто за наукой. Лучшие из тех, кто сюда приходит, — это просто свихнутые на науке, ненормальные люди. Поймите, что учёным не становятся из любопытства. Я в восьмом классе заявил своим родителям, врачам, которые хотели видеть меня медиком: «Я буду заниматься медициной, но для этого я должен окончить физический факультет. И с этими знаниями заниматься медициной». Что до сих пор и делаю. Это разве любопытство? Конечно, есть те, кому любопытно: определённый средний класс людей, такому интересно и одно и другое, он может стать бизнесменом, а может учёным... Но такие, как правило, не выдерживают научной жизни, поскольку она везде очень тяжёлая, и в Америке — значительно тяжелее, чем в России. Тяжесть научной жизни заключается в непрерывной нагрузке. Нельзя отключиться, нельзя пойти погулять, а потом вернуться; те, кто позволяет себе отключаться, быстро вылетают из этой гонки. В лабораториях никто не следит за тем, чтобы ты пришёл к восьми. Можешь прийти к двум часам или вообще не прийти — твоё дело. Но когда бы ты ни пришёл, ты всё равно весь, полностью, в работе. У тебя мозги заняты только ею. Как только ты высвобождаешь их для другого, начинаешь тут же отставать. И всё, проехали. Тебе дорога в фармацевтическую компанию. Где совсем другая жизнь: от и до. Пришёл к девяти, ушёл в шесть. Там появляется своё время, своя жизнь. Хочешь отдыхать, любишь кататься на горных лыжах — пожалуйста, иди работать в коммерческую компанию. Представить себе в Америке активно работающего учёного, который может на месяц уехать кататься на горных лыжах, абсолютно невозможно. Он урывками, по два раза в год, отрывается максимум на неделю. И всё равно берёт с собой свой компьютер, работу. Лучшие идеи приходят, когда ты работаешь непрерывно. Неважно, лежишь ты на диване или разговариваешь по телефону, ты всё равно 24 часа в сутки занят этим делом.
— Но это, наверное, относится к единицам, к тем, кого называют крупными учёными. Ими научные кадры не ограничиваются, есть средний уровень.
— Люди приходят в науку и работают. Один становится великим учёным, а другой нет, но страсть у них одна и та же. Это совершенно вненационально. Конечно, есть и конъюнктура тоже. Например, люди из бедных стран видят в науке возможность пробиться. И вкалывают. Не все они потом станут великими учёными, однако многие из них застрянут в лабораториях на среднем уровне. Очень часто это людей устраивает: сотрудник понимает, что достиг своего потолка, ему вполне комфортно, он делает приятное дело в приятной для себя обстановке. Работает в чужих проектах.
— Об инвестициях: не тормозит ли учёного, его идею проектное финансирование?
— Конечно, тормозит. Нельзя получить грант под суперидею. Можно — под нерисковые вещи или почти нерисковые. Но если ты умный, ты сможешь вывернуться так, чтобы были гранты, много, и чтобы была возможность делать вещи, которые вне этих грантов. Я продаю то, что я уже сделал. Я пишу грант про то, что уже сделано, а на полученные деньги веду работы, которые ни в какие гранты ещё не попадали.
— А что может сказать на это «заказчик»?
— В науке заказчика нет. Точнее, заказчик — сам исследователь. Потому что никто не знает, что исследователь хочет открыть, да и сам он не знает. Узнает потом, когда откроет. Продаётся же тот продукт, который известен. Успех продажи в значительной степени зависит от самого исследователя: в какую оболочку он завернёт свой результат, насколько удачно или неудачно подаст его на рынок.
— Исследователя учат писать заявки на грант, отчитываться по гранту, делать грамотное планирование?
— Детальнейшим образом. Как написать грант — это обязательная часть научного образования. Как отчитаться по нему. Как сделать доклад, как выступать перед публикой. Как написать статью. По этим вопросам есть подробные инструкции и проводятся специальные занятия. В каждой лаборатории с молодыми учёными обязательно этим занимаются. И здесь, в нашей, мы тоже этим занимаемся, потому что это нужно. Приведу пример. В Московском университете студент, который выходит защищать дипломную работу, как правило, выступает первый раз в жизни. Или, может быть, второй. А у меня он с того момента, как пришёл в лабораторию, выступает не реже, чем раз в месяц. С докладом, который обычно гораздо сложнее, в гораздо более агрессивной среде, чем на защите диплома. Поэтому когда мои ребята выходят защищаться, им легко, они уже обучены. Иногда кто-то пытается выступить здесь на семинаре просто так, без подготовки, потому что не понимает, зачем она нужна: что я, не смогу рассказать про то, что я сам делал? И неизменно переживает настоящий шок, потому что доклад не получился. Такого шеф берёт за шкирку, сажает рядом и долго, внятно объясняет, что на первом слайде вот таким шрифтом должно быть вот про это, а второй слайд всегда называется «постановка задачи» и так далее: даёт готовые шаблоны. Это презентационная культура.
— Что можно сделать, чтобы преодолеть её отсутствие?
— Нужно просто, чтобы всё было как на рынке: чтобы была обратная связь. В России мы часто разговариваем об одном, а делаем другое, у нас это разные жанры, совершенно не связанные между собой вещи. Правительство, чиновники, учёные — все ведут «двойную жизнь». Это корень бед: правильные слова, которые не соответствуют ничему реальному. Поэтому надо сделать, чтобы соответствовало. Вот и всё.
— Но есть ещё своего рода интеллектуальный снобизм: неприязнь к шаблонам и упрощённым объяснениям.
— Снобизм — это личное дело. Хочешь быть снобом, будь им. Если найдёшь на свой снобизм покупателя. Мы, учёные, люди бедные. Мы не можем позволить себе роскошь делать то, что хочется. Нам нужно зарабатывать деньги, следовательно, продавать. Российский снобизм, я думаю, идёт не столько от интеллекта, сколько из того давнего советского времени, когда то, что мы получали, никак не было связано с тем, что мы делали. Зарплата у всех была одинаковая — сто рублей или сто пятьдесят; можно было сделать шажок, стать из младшего научного сотрудника старшим и получать двести рублей, но это никак не зависело от того, что ты пишешь в своих статьях и где ты их публикуешь или не публикуешь вообще. Это зависело только от твоих отношений с начальством. Во всём мире это абсолютно невозможная вещь. Ни один начальник не может позволить себе роскоши держать приятного человека, если этот приятный человек не выдаёт статьи. Статьи — это продукт, который надо неуклонно выдавать. У нас система обратной связи разорвана, была и остаётся. Сегодня ты подаёшь в России на грант и даже не получаешь рецензии на заявку!
— А бывают рецензии на грантовые заявки?
— А как же иначе-то? Грантовая система нацелена на то, чтобы выявить лучших в честном и открытом конкурсе. А как оценить, хорошая у тебя заявка или плохая? Вот тебе говорят: у тебя плохая заявка. Докажите. Представьте, пожалуйста, экспертное заключение. Когда эти экспертные заключения представлены, заявитель может их оспорить, попытаться доказать, что эксперты не правы.
— Оспорить отказ в гранте?
— Ну конечно! К сожалению, в России правильный подход к получению гранта — это не хорошая заявка, а «надо найти ходы». Надо договориться, ходить в правильные места, надо чтобы тебя правильные люди знали... Но с качеством твоей научной работы это никак не связано. Опять разрыв обратной связи.
Я уже не один десяток заявок вместе со своими ребятами в России подал, какие-то гранты получил, какие-то не получил. История, которую считаю рекордной в плохом смысле: однажды ответ «Ваш грант не поддержан» я получил через три дня после подачи заявки. Очевидно, что никакой работы с заявками не было, кто получит гранты, было решено ещё до объявления конкурса, но грантовая комиссия (а возглавляли её очень уважаемые люди, серьёзные учёные) даже не дала себе труда это замаскировать. А по правилам рецензент должен мне научно обосновать, что моя заявка не соответствует.
— В России так бывает?
— Оказывается, бывает! Несколько лет назад я подал заявку на грант в Роснано в полной уверенности, что это такая же организация, как все остальные. И был потрясён. Через два или три месяца я получил на свою работу пять рецензий. Ре-цен-зий! Не отписку «Ваш грант поддержан (или не поддержан)», а пять рецензий, из которых одна — на сорок страниц. Эта сорокастраничная была написана настолько квалифицированно... Я российских учёных в своей области знаю довольно хорошо и знаю, что среди них нет человека, который мог бы квалифицированно написать такую справку. Явно работал американец: их учат именно так обосновывать свою точку зрения. Человек добросовестно, по-американски поработал. Он «пропахал» заявку от строчки до строчки, залез в литературу, посмотрел свежайшие статьи, сослался на них: «Три месяца назад вышла статья, в которой написано вот что, а вы говорите вот что...» Заканчивалась рецензия так: «Недостаточно информации для того, чтобы сделать заключение». Но эта схема была мне хорошо знакома, опыт есть. Я поднимаю своих ребятишек, мы ставим новые опыты — прицельно, чтобы ответить на конкретные вопросы рецензии, пишем практически ещё одну заявку, где раскрываются все недостающие подробности, и в результате получаем финансирование почти миллиард рублей. Так работает Роснано. Кто-то их ругает, кто-то хвалит, но схема у них очень простая и правила понятные. Когда я потом лучше узнал их систему, то увидел, что в какой-то момент они столкнулись с совершенно фантастической, однако предсказуемой ситуацией: через такое сито, как у них, российскому проекту пройти трудно. Деньги есть. Проектов не хватает.
— Это из-за нехватки презентационной культуры или с содержанием проектов тоже не всё в порядке?
— С содержанием тоже. Мы всё потеряли за двадцать лет. Нет науки, нечего подавать.
— Но что-то же в российской науке происходит?
— Ошибаетесь. Не происходит. Осталось считанное количество сильных лабораторий, я их все могу перечислить.
— Перечислите.
— Не буду. Неэтично.
— А как их отличить невооружённому глазу?
— По публикациям в журналах Nature и Science.
— И всё-таки вся наука не может поместиться в два даже очень хороших журнала. И в десять тоже не влезет. Как работает экспертиза со стороны научного сообщества, чтобы поддерживать общий уровень своей науки?
— Посредством так называемых peer-reviewed журналов: таких, где материалы рассматривает не редколлегия, а специалисты, учёные. Таких изданий довольно много, и, чтобы публикация ценилась и котировалась, публиковаться надо именно в них. Система работает подобно грантовой. Подав статью в peer-reviewed журнал, ты получаешь обратную связь: рецензии. Обычно две-три, очень жёсткие — статью будут долбать со страшной силой. Чем выше рейтинг журнала, тем жёстче его рецензенты.
— То есть подача материалов в такой журнал имеет ещё и обучающую силу?
— Абсолютно. И рейтинговую. Это единственная система, которая нас, учёных, сравнивает между собой. Нас много, каждый думает, что очень хорош. Но единственная измеримая реальность, фундамент, на который опирается всё остальное — гранты, должности, деньги, — это твои публикации и их рейтинг. Пробился в Nature — молодец, замечательно, ты можешь попасть на профессорскую должность в самый лучший университет. Пробился в журнал Cell — специализированный журнал по биологии, будет то же самое. У Cell рейтинг иногда бывает выше, чем у Nature, потому что Nature и Science в мире академических изданий считаются популярными журналами, их роль примерно такая же, как у «Науки и жизни». Туда пишут специалисты, но очень популярно. Кстати, попаду я в Nature или нет, зависит ещё и от того, насколько популярно я сумею подать свою работу публике, насколько смогу поразить не специалистов, а просто образованных людей, для которых этот журнал работает. Популярные журналы — хорошее сито, учёный должен уметь доказать, что его работа хороша, всем, а не только интересующимся его областью.
У журналов тоже есть рейтинг, он определяется импакт-фактором. Журналы оцениваются по тому, насколько их публикации оказывают влияние на мировую общественность. Это подсчитывается очень легко: импакт-фактор — это сколько раз на статью сослались в течение какого-то срока. Средний индекс цитируемости статьи в этом журнале. И если в среднем каждая статья в журнале Nature цитируется тридцать раз за год после выхода, это очень высоко. Тридцать или около — реальный показатель импакт-фактора этих журналов. Дальше идут более специализированные журналы, в биологии и биофизике импакт-фактор таких журналов лежит где-то в границах 25 — 20 — 15. Журналы с импакт-фактором «десятка» считаются высокого класса профессиональными изданиями. Очень высокий класс, хотя и в три раза ниже, чем лидеры. Издания, публикация в которых идёт биологу или биофизику в зачёт, — это журналы с импакт-фактором примерно до тройки. Ниже тройки — считается, что в них можно опубликовать что угодно: немножко подупрись и опубликуйся. Для сведения: импакт-фактор российских биофизических журналов лежит в диапазоне 0,1—0,2. Мне на Западе, случалось, говорили: «У вас есть журнал “Биофизика”. Что с ним случилось? Когда-то, в 60-е — 70-е годы мы ждали каждого нового номера, он был у нас настольный». А сейчас на Западе перестают читать российские журналы, и это объяснимо. Я тоже перестал их читать. Сначала пытался бороться с падением уровня, потом перестал в них публиковаться. В российской науке я как бы не существую. Ко мне очень давно не обращаются за рецензиями на статьи. Потому что будет жёсткая рецензия, которая не нужна. Меня не берут в редакции. Не берут оппонентом в защиты диссертаций. Академическая наука пытается изолироваться, обойтись без системы обратной связи.
— Вы в стороне от академической системы, но успешно получаете гранты, продаёте свою работу, прекрасно выживаете. Значит, одно не является необходимым условием для другого?
— Является, но отчасти. Российская наука устроена так: ничто не работает напрямую. Та схема, без обратной связи, которую я вам нарисовал, тоже реализуется непоследовательно и не до конца. У меня есть имя, известность, высокого уровня публикации. Это ценится, на этом ресурсе я делаю свою карьеру в России. Загадочным и непонятным образом.
— Кому принадлежат получаемые вами результаты?
— В этом вопросе полная каша. В Гематологическом центре я заместитель директора по науке. Моя задача — научная сторона институтской жизни. Приходят люди и говорят: «Я подал на патент. Мне нужно за этот патент заплатить три тысячи рублей». У института денег на это никогда нет. Институт вроде и хочет, чтобы эта интеллектуальная собственность принадлежала ему, но трёх тысяч рублей потратить не хочет. Тогда человек платит из своего кармана и берёт патент сам. И начинается скандал.
— Разве в контрактах сотрудников не оговорены эти вопросы?
— Какие контракты? Мы государственные служащие, у нас никаких контрактов нет.
— Где вообще проходит граница между «ролью личности» и участием организации в той или иной ценной разработке?
— В США, когда профессор, возглавлявший лабораторию, уходит или умирает, лаборатория ликвидируется. Полностью. Оборудование, которое там стояло, выбрасывают на свалку или распродают, будь это даже новейший прибор, который только вчера купили. Все без исключения сотрудники сокращаются. Объявляют новый конкурс, берут нового профессора. Ему дают деньги, о которых он сторговался, полмиллиона или миллион, делают ремонт, и он всё покупает заново. Бывают случаи — помещения-то однотипные, работа однотипная, — что один профессор ушёл, всё вынесли, потом новый профессор пришёл и на то же место поставил точно такой же прибор, какой там раньше стоял, только новый. Я сначала недоумевал и расстраивался: ну как же можно так расточительно относиться? По опыту оказалось: совершенно правильно. Если ты поверил в руководителя лаборатории, ты должен дать ему карт-бланш, а не навязывать предысторию. Нет никакой предыстории, есть только история — он сам. Что он сделает, то сделает. Если ты ошибся в нём и не получил того, что надо, ты его уволишь и возьмёшь другого. Уникальное оборудование, скажем синхрофазотрон, не выбрасывают, конечно, но основная тенденция такая: с чистого листа под единоличную ответственность профессора. Это оборачивается огромными выгодами.
Рынок ценен тем, что даёт обратную связь. В американской науке всё построено как на базаре и поэтому всё очень точно отслеживается. Вот, например, физика. Она замечательно хорошо продавалась в 50-е, 60-е, 70-е годы, пока была востребована. Шла холодная война, нужно было точить оружие, делать ракеты, ядерные бомбы, на физику был колоссальный спрос. Когда холодная война закончилась, по инерции этот спрос какое-то время ещё продолжался, а потом физика сломала себе хребет, когда пообещала дать мирный термояд, обеспечить человечество энергией и раз за разом не смогла это сделать. Сейчас физика представляет собой удивительное явление, совершенно, по сравнению с биологией, камерный мир. Импакт-фактор высочайших, легендарнейших физических журналов — пять. Физиков сегодня так мало, что они между собой общаются по электронной почте: посылают друг другу свои статьи. Написал статью — и разослал. Разве можно это сравнить с сегодняшней биологией, многочисленной, с колоссальной конкуренцией?
— Получается, что физика нужна только затем, чтобы ковать ядерный щит?
— Ядерные щит и молот — только одна сторона дела. Другая заключается в том, что физике очень долго не приходилось объяснять, зачем она нужна. И она разучилась себя продавать. Сейчас учится снова, вполне успешно. Один из самых выдающихся физических проектов, который резко поднял авторитет современной физики, — это космическая обсерватория «Хаббл». А почему? Да просто он принёс на Землю из космоса много потрясающе интересных картинок, на которые любопытно посмотреть абсолютно всем: и специалисту и обывателю. А если к хорошей картинке написан популярный текст, продавать свою науку становится ещё легче...