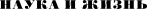В истории культуры нового времени не так уж много конспектов, которые могли бы претендовать на самостоятельное значение. Как правило, если первоисточник не утерян, то конспект необязателен.
Но пушкинский конспект «Описания земли Камчатки» С. П. Крашенинникова — включённый как в академическое собрание его сочинений, так и в обычный десятитомник наряду с материалами «История Петра» и «История Пугачёва» — представляет нам случай для отдельного размышления.
Конспект делался в конце «чёрного» для поэта 1836 года. Пушкин много пишет для «Современника», собирается написать и о покорении Камчатки на основании сочинения Крашенинникова, второе издание которого (1786 года) было у него в библиотеке. Делает множество выписок, оставляет набросок плана и с десяток строк, датированных 20 января 1837 года, стилистически ещё слишком родственно связанных с «Описанием…», — и на этом всё заканчивается. Текст не написан. Выписки обрываются фразой «До царствования имп. Елисаветы Петровны не было и ста человек крещёных», которая кажется столь же случайной, как и самое намерение писать зачем-то о Камчатке.
Однако в 1836 году, а уж тем более в 1837-м, ничего «случайного» Пушкин не мог делать; всё, казавшееся случайным извне, было для него закономерно изнутри, и именно изнутри ситуация с конспектом предстаёт в совершенно неожиданном ракурсе. Вместе с приложениями к «Истории Пугачёва» и «Истории Петра» конспект книги Крашенинникова демонстрирует титаническое усилие, с которым поэт осмысливал новое пространство для работы (необязательно при этом поэтической). Перед нами — расчищенный под пашню кусок леса, покрытый золой выкорчеванных и сожжённых деревьев, размер которого даёт представление о масштабе предстоящего труда. Он огромен. Может быть, несоразмерен даже жизни отдельного человека. Черновая работа так велика и трудоёмка, что невозможно даже представить — что дóлжно получиться по завершении. Мы не знаем и не узнаем никогда. Здесь очевидна трагедия, особенно нам, знающим, что смерть поджидает поэта в феврале 1837 года. Важно другое.
Совсем неожиданно в своей подготовительной работе Пушкин является нам не в привычном своём поэтическом образе баловня муз и избранника судьбы, но в обличье прямо противоположном. Перед нами — чернорабочий литературы, буквально — землекоп, перелопативший целые горы фактуры, так что и материалы «Истории Петра», и конспект из Крашенинникова, не являясь произведениями 1) оригинальными и 2) законченными, тем не менее представляют собой единый, как принято ныне говорить, мега-текст или опыт прочтения Пушкиным важнейших событий русской истории, в которой поэт, отбирая факты, выступает в роли поводыря.
Но остаётся неясность. Пётр — для Пушкина интерес безусловный. Однако что заставило его обратить свой взор на дальнюю окраину империи, заселённую «дикарями», где первые поселенцы, казаки, по его же собственным словам, селились в «жалких острожках»?
Путешествия Пушкина — как реальные, на юг и в оренбургские степи, так и «воображаемые», вроде путешествия на Камчатку вослед за Крашенинниковым, — объясняются отнюдь не данью романтической литературной моде. Дело в самой литературной задаче, какой она явилась веку: российский писатель XIX века поневоле путешественник. На почтовых или в тарантасе пускается он в путь, чтобы обозреть пространства необъятной страны, доставшейся ему в наследство от века минувшего. От Пушкина не так уж далеко до Петра, а от Петра рукой подать до той эпохи, когда крайней южной границей России были засечные леса под Тулой, когда степь пахать выезжали наездом; когда ещё грозны были крымчаки, шведы, поляки… Украйна ещё толком не присоединилась; за Волгой — неясность; Сибирь и ещё более Дальний Восток — просто ширь, обживаемая отчаянно храбрым промышленным людом и казаками…
Пушкин гораздо трезвее, нежели мы сейчас, смотрит на эпоху начала, поскольку глаза ему не застит свет российского «величия» — напротив, только с Петра эта большая, но совершенно затерявшаяся на обочине истории страна, запертая без моря в своих огромных просторах и запечатанная с севера ледяной пробкой, начинает постепенное своё восхождение, начинает быть в Европе заметна, а Австрии (одной только!) нужна как союзник в борьбе с турками. Пётр не просто прорубил окно в Европу, он врубился и в европейскую историю, сломив одного из самых могущественных самодержцев той поры и вырвав у всей Европы признание своего величия. Для этого нужны были военные победы, умная дипломатия, покровительство торговле и наукам, мудрая политика по отношению к иностранным купцам и — ясное осознание собственной мощи. По крайней мере как огромности, неохватности.
6 января 1725-го, то есть буквально за десять дней до начала смертельной болезни Петра, был издан им указ об экспедиции в крайнюю точку империи — на Камчатку. Пётр призвал к себе датчанина Витуса Беринга и дал подробные инструкции... Экспедиция отбыла уже после смерти царя, но поставленной задачи не выполнила, и, когда в марте 1730-го
Беринг возвратился, адмиралтейств-коллегия отказалась признать за ним честь открытия пролива между Азией и Америкой. Эту неудачу с лихвой восполнила Вторая Камчатская экспедиция, организованная уже в царствование Анны Иоанновны, участником которой становится молодой Степан Петрович Крашенинников. Вообще, экспедиция, в которой участвовал Крашенинников, получившая название Второй Камчатской (или Великой Северной), была делом неслыханным. Она продолжалась десять лет (1733—1743) и стала событием такого политического, экономического и культурного масштаба, аналог которому не сразу и сыщется в истории географических исследований. Один из историков её писал, что по своему размаху экспедиция может сравниться с древним плаванием финикийцев вокруг Африки и с географической съёмкой китайской империи при императоре Кан-Си (1708—1718) с той, однако, оговоркой, что китайцы картировали территорию несравненно меньшую, чем пространства России за Уралом.
В экспедиции участвовало около тысячи человек. Было создано восемь отрядов (Обский, Ленский и др.), каждый из которых основывал в Сибири свою базу и строил на месте флот. Офицеры, а также многие нижние чины взяли с собой в экспедицию семьи. За отрядами, действовавшими на Крайнем Севере, местные жители гнали «табуны» оленей. Подати на пропитание экспедиции сильно подогрели недовольство малых народцев; вспыхнули бунты, но были усмирены.
В результате десятилетней работы было вычерчено всё северное побережье России от горла Белого моря до Тихого океана и «Большой Земли» (Америки), вычерчены устья всех сибирских рек и русла крупнейших; разведан путь в Японию; собраны коллекции; учреждены фактории. Архив экспедиции до сих пор до конца не разобран; одних только карт экспедиция составила 62, положив начало картографическому архиву морского ведомства (прежде карты хранились в разных местах).
Степан Крашенинников входил в отдельный академический отряд, созданный специально для научных разысканий. Но тогда он не был ещё «знаменитым исследователем» и адъюнктом петербургской Академии наук. При начале экспедиции ему было двадцать два года и он был в числе тех молодых дарований — художников, рисовальщиков, студентов, — которые сопровождали корифеев тогдашней науки — астронома Делакроера, историографа Г. Миллера, естественных наук профессоров Георги и Гмелина. Вместе с Гмелиным Крашенинников три года проработал в Сибири, а затем вместе с адъюнктом академии Штеллером отправлен для изучения Камчатки и Курильских островов. Через десять лет после возвращения с Камчатки Крашенинников издал первое её научное описание (1751), которое, как мы знаем, и привлекло внимание Пушкина.
При этом важно, что Пушкина интересует не экспедиция (предприятие воистину петровского размаха!) и не сам Крашенинников, великолепный представитель краткого века российского просвещения. Его интересует сама дикая «землица» эта; её бесстрашные и беспощадные покорители и всякие несказанные народцы, чьи имена в Петербурге если когда и слыхали, то, конечно, забыли: коряки оленные и косухинские, чукчи, юкагиры, ительмены и алеуты... Из книги Крашенинникова Пушкин записывает историю деяний и гибели Атласова, «камчатского Ермака», и историю бунта камчатских народцев, ещё более бессмысленного, чем любой русский бунт...
Отчего так?
Пушкин понимает, что одних геодезистов и профессоров естественной истории для освоения новых земель недостаточно: пространства эти должны быть выражены в слове, ожить образно. Так история-география России, за один век распахнувшейся от Балтики до Чёрного моря и Тихого океана, надолго поступает в ведение литературы. Пушкин, поначалу и не своей даже волей, оказывается в первом ряду тех, кто призван облечь словом эту новую страну, переживающую славную пору своего могущества. Будто случайно объезжает он все вновь открывшиеся рубежи: оказывается на Кавказе, в Крыму (в то самое время, когда там творят «культурную революцию» вошедшие в зрелость генералы 1812 года), посещает Одессу и Кишинёв, чтобы оттуда вывезти моментальный бессарабский набросок — «Цыганы»… Он совершенно совпадает со своей миссией гения, повсюду запечатлевая «образы места» («Бахчисарайский фонтан») или набрасывая сюжеты, которые станут для русской культуры настоящими мифологемами («Кавказский пленник»). Он не выполняет никакой специальной задачи как картограф или ботаник, он действует как частное лицо, но образ земли, столь долгое время немотствующей, сам собою проступает сквозь его страницы, как картина поволжской степи в «Капитанской дочке», никем с той же значимостью для русской культуры не написанная. При этом он оказывается на пограничье не так, как изгои русской истории. Он сослан — но повсюду он не столько ссыльный, сколько фаворит весьма завидной фрондёрской судьбы. Его охраняет задача гения — задача осветить смоляным факелом и как-то огласить эту неведомую никому страну. Именно поэтому так властно привлекает его к себе «Описание…» Крашенинникова.
Может быть, мы верно угадаем в пушкинском интересе к книге Крашенинникова ещё и мотив бегства, позднее сделавшийся столь популярным в литературе. В выборе между столицей и дальней окраиной (даже если выбор совершается только в уме) фронда бегства очевидна: убежать из Петербурга, чтобы схорониться там, в удивительных ландшафтах, удивительном языке... Немало для своего времени поездив по российским просторам, Пушкин под конец пускается в путешествие виртуальное... Странная, ни на что не похожая земля… Драмы первопроходцев. Их первобытное мужество, невероятные характеры… История Камчатки, несомненно, представляет ему шанс для бегства — от безвыходной финансовой, личной и творческой ситуации, от «жалкого века»... «Частная жизнь», открывшаяся в России указом придурочного царя* «о вольности дворянства», начиналась медленно и трудно. Но если частную жизнь нелегко было начинать и дворянам в своих имениях, то Пушкин замахнулся на большее — быть первым свободным горожанином (по`зднее камер-юнкерство не в счёт), более того — свободным издателем и литератором, судьёю, государем слова (а уж это — вовсе невиданное дело!) и не где-нибудь, а в столице, под боком у самодержца и его двора, в обществе, лишённом малейшего понятия о самостоятельном достоинстве. «Это отсутствие общественного мнения, равнодушие ко всему, что является долгом, к справедливости, к истине, это циническое презрение к человеческой мысли, к достоинству…» сводят поэта с ума.
В 1836 году, когда писался им конспект, жизнь в Петербурге стала окончательно невыносима для поэта: он это знал давно, прекрасно понимая смертельную опасность для себя жизни близ двора. Об этом пишет он с полным сознанием в одном из писем жене ещё в 1834 году: «Я сплю и вижу, чтоб к тебе приехать, да кабы мог остаться в одной из Ваших деревень под Москвою, так бы Богу свечку поставил; рад бы в рай, да грехи не пускают. Дай, сделаю деньги, не для себя, для тебя. Я деньги мало люблю — но уважаю в них единственный способ благопристойной независимости… На днях хандра меня взяла; подал я в отставку. Но получил от Жуковского такой нагоняй, а от Бенкендорфа такой сухой абшид, что я вструхнул и Христом Богом прошу, чтоб мне отставку не давали. А ты и рада, не так ли? Хорошо, коли проживу я ещё 25; а коли свернусь прежде десяти, то я не знаю, что ты будешь делать и что скажет Машка, а в особенности Сашка. Утешения мало им будет в том, что их папеньку схоронили, как шута (то есть в камер-юнкерском мундире. — Прим. ред.), и что их маменька ужас как мила была на Аничковых балах (в Аничковом дворце устраивались балы для тесного круга близких ко двору и лично к царской семье. — Прим. ред.)…»
В 1834 году Пушкин ещё мог шутить над своим положением: три года спустя стало ему не до шуток. Свет (и царь лично) буквально полонил Наталью Николаевну. Она была красавица, царь желал её видеть. Ни о каком отъезде из Петербурга, ни о каком вольном житии в своём или в тёщином имении для Пушкина нет уже речи. Он не волен разорвать ненавистный ему круг жизни в столице. Он — заложник света и всех его интриг. Невольник чести… Он затравлен невыносимой для него историей с Дантесом, ставшей достоянием всего Петербурга, он даёт честное слово императору не доводить дело до дуэли, но чувствует, что сдержать это слово не удастся; собрав огромный материал к истории Петра, он понимает, что расчищенную им делянку не засеять и не дождаться всходов — историю Петра «не позволят напечатать» (сказано на вечере у Плетнёва в январе 1837-го). Поэтому возможно, что в конце жизни книга Степана Крашенинникова послужила Пушкину последним убежищем, возвращая мысли и чувства в героический век Петров, столь милый поэту. В книге Крашенинникова он нашёл характеры необыкновенной силы, экзотические ландшафты, непривычное уху звучание далёких языков. Неслучайно, как завороженный, повторяет он местные топонимы: реки Авача, Уйкоаль, Амшигач, Шияхтау... История Федота-Кочевщика пленяет его, как некоторые страшные, но необычайно яркие подробности пугачёвского восстания…
«...Первый из русских, посетивших Камчатку, был Федот Алексеев; по его имени Никул-река называется Федотовщиною. Он пошёл из устья Ковымы Ледовитым морем в 7 кочах, занесён он был на реку Камчатку, где он и зимовал; на другое лето обошёл он Курильскую Лопатку и на реке Тигиле убит от коряк.
Служилый Семён Дежнёв в отписке своей подтверждает сие с некоторыми изменениями: он показывает, что Федот, будучи разнесён с ним погодою, выброшен на берег в передний конец за реку Анадырь. В той отписке сказано, что ходил он возле моря в поход и отбил у коряк якутку, бывшую любовницу Федота, которая сказывала, что Федот с одним служивым умер от цинги, что товарищи его побиты, а другие спаслися в лодки и уплыли неведомо куда...»
Рассказывая историю покорения Камчатки, Пушкин невольно устремляется прочь из смертельно опасного для него Петербурга к самым окраинным диким пределам, в доисторические, эпические времена, когда на всей Камчатке «не было и ста человек крещёных»…
Книга Крашенинникова, несмотря на ряд переизданий, сегодня принадлежит к числу если не забытых, то специальных. Прикосновение к ней Пушкина в конце жизни — «конспект» — делает её и загадочной и актуальной. Вслед за Пушкиным мы перелистываем несколько страниц — и неожиданно проваливаемся с головой в неведомую историю неведомой России!
Возможно, размышляя таким образом, мы приблизились к разгадке загадочного конспекта. Возможно, ничего не поняв, мы только запутали дело. Во всяком случае и сегодня, двести с лишним лет спустя после рождения поэта, нам не пристало думать, что мы «знаем о Пушкине всё».
Комментарии к статье
* Как известно, Указ о вольности дворянства был подписан мужем Екатерины II, императором Петром III в 1762 году.