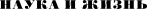Открытие цепных разветвленных реакций стало новой главой химии. Оно позволило предсказывать характер многих химических превращений и управлять ими, в том числе таким строптивым процессом, как горение.
В. АЗЕРНИКОВ.
Химикам не одно столетие была известна эффективная реакция хлорирования водорода. Хлор, и водород, смешанные в темноте, спокойно сосуществовали друг с другом, но стоило осветить их, как они тут же взрывались, словно наверстывая упущенное. Еще более древним было окисление фосфора. При атмосферном давлении он жадно поглощал кислород, полыхая таинственным светом, и в конце концов самовоспламенялся.
Этим реакциям суждено было сыграть значительную роль в развитии химии; с их помощью были сделаны два важных открытия.
В 1912 году Альберт Эйнштейн опубликовал свой известный фотохимический закон, по которому одна молекула реагирующего вещества может быть активирована одним квантом света. И если в сосуде миллиард молекул, то, чтобы дать энергию для взаимодействия или разложения, нужен миллиард фотонов. Этот закон осветил скрытый до тех пор механизм многих фотохимических реакций, в том числе, как показалось вначале, реакции хлорирования водорода. Однако уже через год стало ясно, что здесь, что-то не так. Ведь, согласно закону Эйнштейна, один фотон мог вызвать только один акт взаимодействия, его энергии хватало на инициирование лишь одной пары молекул. А когда известный немецкий физико-химик Макс Боденштейн занялся количественным изучением этой старой реакции, он с удивлением обнаружил, что на каждый поглощенный квант света образуется миллион молекул хлористого водорода. Получалось, что эта реакция не подчинялась закону Эйнштейна. Это было совершенно непонятно, и требовало объяснения. Боденштейн дал его; он предположил, что здесь происходит процесс, напоминающий падение колонны оловянных солдатиков. Что происходит, когда толкают первого солдатика? Он толкает второго, стоящего за ним, тот третьего, и так далее; одного небольшого усилия оказывается достаточно, чтобы повалить пару дюжин фигурок. То же самое происходит, и при соединении хлора, и водорода. Квант энергии, поглощаемый одной молекулой, как эстафета, передается по цепи от молекулы к молекуле, постепенно все их вовлекая в реакцию. Боденштейн так, и назвал такой тип реакции - цепным.
Поначалу в механизме цепных реакций не все было понятно, но в 1918 году знаменитый Вальтер Нернст объяснил, в чем там дело. Энергия кванта света определенной длины волны поглощается окрашенным газом - хлором, и под действием этой энергии молекула разваливается на два атома. Атом хлора, как известно, активнее молекулы, он имеет свободную валентность, и ему уже нетрудно соединиться с молекулой водорода, оторвав от нее один атом. В итоге получается одна молекула хлористого водорода, и свободный активный атом водорода, который, в свою очередь, реагирует с молекулой хлора, отрывая от нее один атом, и так далее; реакция катится, словно по цепи, до тех пор, пока два атома хлора из соседних цепей не встретятся случайно и не образуют вновь неактивную молекулу. Тогда цепь оборвется.
Итак, все стало на свои места непонятное явление было объяснено, появился новый класс химических реакций - цепные, и на, какое-то время в химической кинетике наступило успокоение. Длилось оно, правда, недолго - до 1926 года, до тех пор, пока молодой ленинградский физик Николай Семенов не взялся за другую реакцию - окисление фосфора - и не обнаружил, что она не подчиняется не только закону Эйнштейна, но, и механизму боденштейновских цепей. Фосфор соединялся с кислородом в, каком-то непонятном темпе, исходные вещества вовлекались в реакцию не с постоянной скоростью в пределах каждой цепи, как следовало бы, а с явным ускорением, словно подхлестывая самих себя.
Два года Семенов разбирался в этом непонятном явлении, пока не понял наконец, что происходит. Некоторые частицы окисла фосфора, получившиеся в результате первых взаимодействий исходных веществ, не успев испустить свет, а потому активные, встречались с неактивными молекулами кислорода и разбивали их на два активных атома, каждый из которых начинал прямую боденштейновскую цепь окисления. Из каждой цепи рождались две, и через мгновение новые образующиеся окислы рождали новые цепи, и реакция нарастала, как лавина, как снежный ком. Такую реакцию Семенов назвал в отличие от боденштейновской разветвленной цепной реакцией.
Вскоре оказалось, что семеновские цепи весьма распространены в природе - по разветвленному механизму шли многие реакции, и в первую очередь такая древняя, как горение. Открытие, сделанное молодым советским ученым, и созданная им вскоре теория цепных процессов и разветвленных, и неразветвленных - оказались важным вкладом в химическую науку, и промышленность. И не только в химию - не за горами было открытие цепной ядерной реакции, подчиняющейся тем же закономерностям.
Когда-то Фарадей заметил, что он потому так высоко поднялся в науке, что стоял на плечах гигантов. То же самое можно сказать, и о Николае Николаевиче он принял эстафету у корифеев физико-химии, и достойно пронес ее через новый этап, быть может, еще более трудный, ибо ученый не просто открыл новый класс реакций, он создал цельную теорию, объясняющую их механизм, позволяющую предсказывать их ход и управлять ими.
Но любопытно, что одно из примечательных открытий XX века, по праву принесшее его автору Нобелевскую премию, было сделано в результате стечения обстоятельств, где Макс Боденштейн сыграл роль катализатора, но не своей поддержкой, а, напротив, своей едкой критикой.
Началось все с того, что в один из дней в конце 1924 года к Семенову, заведующему тогда лабораторией в Физико-техническом институте в Ленинграде, пришла молодая девушка.
'Приходит она, говорит, что окончила университет, и хочет поступить в аспирантуру. Семенов вынужден ответить, что у него нет места. Зина Вальта, так зовут девушку, смущается, мнется, говорит, что ей так много хорошего рассказывали о работах, ведущихся здесь, о руководителе этих работ. Ей очень хотелось бы, она надеется.
Семенов обещает подумать, просит зайти через некоторое время. Его молодые сотрудники, оказывается, знакомы с Зиночкой Вальта, действительно много рассказывали ей о своем коллективе и ходатайствуют о ее зачислении. Поворчав для строгости, посопротивлявшись день для порядка, Семенов подписал у директора института академика Иоффе распоряжение о зачислении Зинаиды Вальта аспирантом в лабораторию электронных явлений.
Когда Зиночка, сияя от радости, вышла на работу, Юлий Борисович Харитон, ее руководитель, ныне академик, а тогда двадцатилетний начинающий ученый, так объяснял ей тему работы.
Есть фосфор - элемент, как говорят химики, жадно притягивающий кислород. Есть кислород, охотно вступающий в реакцию с фосфором. При удовлетворении их взаимных интересов происходит реакция окисления, сопровождаемая выделением энергии. Это легко видно невооруженным глазом, поскольку часть энергии или вся она превращается в световое излучение фосфор светится. Ясно? Ясно.
Можно предположить, что при обычном атмосферном давлении возбужденные молекулы окислов фосфора не успевают превратить в свет всю полученную энергию она, по-видимому, частично теряется при столкновении с другими атомами, и молекулами и переходит в тепло. А если это так, то стоит понизить давление в сосуде, где идет реакция, как количество столкновений уменьшится, а свечение должно будет увеличиться; возможно, даже вся энергия фосфора будет переходить в свет. В справедливости данной гипотезы, как казалось, можно было легко убедиться - по увеличению яркости свечения фосфора при уменьшении давления кислорода.
Однако поначалу идею «положили» до поры до времени в ящик письменного стола - вместе с другими хорошими, и плохими мыслями, требовавшими на свою проверку времени, которого не было. А когда в лаборатории появилась Зина Вальта и ей нужно было дать, какую-то тему, о той идее вспомнили. И она стала уже не просто идеей, а научной работой молодой аспирантки.
Схема эксперимента выглядела довольно просто. Стеклянный сосуд, где находится кусочек фосфора; из него откачан воздух; к сосуду подходит трубка, по которой идет кислород; давление кислорода замеряет ртутный манометр Мак-Леода. Чтобы пары фосфора или его окислов не попали в манометр, и не испортили его, часть трубки охлаждается жидким воздухом, он конденсирует пары, возвращая обратно в сосуд сбежавшие вещества. Вот, собственно, и все.
Когда Вальта, и Харитон в первый раз провели опыт при давлении в сотую долю атмосферы, они ничего не увидели. Никакого свечения.
Все ясно, решили они, что-то напутали в приборе. Проверили всю схему. Ничего компрометирующего не нашли.
Начали в третий раз. Установили давление повыше. Пустили кислород. Фосфор заполыхал таинственным светом. Пошло окисление; фосфор, соединяясь с кислородом, таял. Регистрируя убыль кислорода в системе, медленно опускался вниз столбик ртутного манометра. И вдруг замер. И тотчас потухло свечение. Реакция остановилась.
Четвертый, пятый, десятый опыт - словно дьявол поселился в их колбе выше определенного критического давления реакция идет, ниже - не идет. А должно быть, по их предположению, совсем наоборот. Причем, поскольку давление кислорода в ходе реакции неизбежно падало, наступал момент, когда в колбе воцарялось то самое критическое давление, и окисление словно автоматически прекращалось.
Однако стоило впустить в колбу малую толику кислорода, и свечение опять появлялось. Это было очень удивительно. Но еще более возросло удивление ученых, когда реакция ожила при добавлении в сосуд не кислорода даже, а небольшого количества аргона. Понять сие уж вовсе было нельзя инертный газ, называемый так потому, что он не способен вступать в химические реакции, восстанавливал реакционную способность кислорода.
Как остроумно заметил один ученый, задача науки - объяснить то, что нельзя понять. И Семенов, заинтересованный не меньше, чем Харитон, и Вальта, вместе с ними стал подбирать, какой-нибудь теоретический ключ к непонятному экспериментальному парадоксу. Возились они, возились, и так пытались и этак - ничего не получалось.
А время шло. Что было делать в такой ситуации? Не сказать всем о том, что они обнаружили, нельзя, а сказать по этому поводу нечего. Порешили выбрать золотую середину ничего не объясняя, просто описать в статье экспериментальную находку.
Вскоре статья за подписью Юлия Харитона, и Зинаиды Вальта была опубликована в двух журналах - у нас в стране и в Германии. Ученые посчитали на этом свой долг исполненным, и перешли от бесплодного изучения мистических явлений к делам земным. Ю. Б. Харитон, как и собирался, уехал за рубеж, Зиночка, расстроенная. вероятно, своим неудачным дебютом в науке, оставила лабораторию, куда еще недавно так стремилась, и перешла в аспирантуру другого института. А Николай Николаевич, по-видимому, вздохнул с облегчением, когда с плеч упали сразу две горы необъяснимый эксперимент и сотрудница, требующая объяснять, что ей делать дальше.
И открытие не состоялась.
Через 35 лет после этого дня Николай Николаевич Семенов, уже умудренный жизнью, познавший цену неожиданностям в науке, и понявший в полной мере долг исследователя, написал «Никогда не следует проходить мимо неожиданных и непонятных явлений, с которыми невзначай встречаешься в эксперименте. Самое важное в эксперименте - это вовсе не то, что подтверждает уже существующую, пусть даже вашу собственную теорию (хотя это тоже, конечно, нужно). Самое важное то, что ей ярко противоречит. 3 этом диалектика развития науки». Но тогда, в 1925 году, 29-летний физик чуть было не упустил открытия разветвленных цепных реакций, и Нобелевскую премию - он расстался со своей идеей, посчитав ее в тот момент несвоевременной, и, как признал позже сам, не думал к ней возвращаться.
И, возможно, не вернулся бы, если бы статью Вальта и Харитона не прочел Макс Боденштейн, и не расчехвостил ее по всем пунктам.
Боденштейн, открывший цепные неразветвленные реакции, считался по справедливости главой ученых, работающих в области химической кинетики. И когда в его статье, написанной в ответ на публикацию Вальта, и Харитона, прозвучало скрытое осуждение ленинградских ученых за спешку, небрежность в постановке опыта, от таких обвинений нельзя было просто отмахнуться. И поскольку здесь была задета честь всей лаборатории, то к барьеру должен был выйти ее руководитель.
Николай Николаевич внимательно прочитал заметку Боденштейна. Аргументы немецкого химика звучали действительно убийственно. Ведь, по Боденштейну, получалось, что порок в самой схеме установки она собрана так, что кислород, поступая в сосуд через ловушку, непременно должен был сталкиваться со встречным потоком паров фосфора, стремящихся, естественно, вытолкнуть его обратно, не допустить к реакции. Поэтому, и приходилось повышать давление кислорода, чтобы он одолел встречное давление. То же самое происходило, когда к кислороду добавляли аргон, - он также повышал давление смеси и открывал таким образом кислороду доступ в сосуд. В заключение Боденштейн вообще не советовал кому-либо заниматься столь безнадежными опытами.
Обстановка усугублялась тем, что статью Боденштейна прочли, и другие сотрудники лаборатории, стала она известна и институтскому руководству. Начались разговоры - сначала тихие, вполголоса, никого прямо не обвиняющие, лишь намекающие на легкомысленность некоторых заведующих некоторыми лабораториями. Потом критические голоса стали слышны довольно громко Семенов оказывался в сложных отношениях не только с немецким ученым, но, и с собственными коллегами. Ситуация создавалась неприятная, она требовала немедленных действий.
Николай Николаевич решил сам заняться проклятым фосфором и ради этого бросить на время другие дела.
Сначала надо было продумать во всех деталях будущий эксперимент. Было ясно, что установку следует изменить так, чтобы из нее выпало уязвимое место - ловушка фосфора, которая оказалась ловушкой для них самих.
Зачем она нужна была? Чтобы не допустить попадания фосфора в ртутный манометр. Значит, надо заменить манометр, поставить такой, чтобы он не боялся соприкосновения с парами фосфора. Так, и сделали. Новый, простой сернокислотный манометр крепился непосредственно к сосуду, а кислород поступал сам по себе. После нескольких опытов стало видно, что Боденштейн частично прав, но правы и физтеховцы. Фосфорная пробка действительно образовывалась в прежнем месте, но, и кислород тем не менее не реагировал с фосфором ниже критического давления. Оно было, правда, не такое низкое, как раньше, но все же реально существовало. Оно измерялось теперь не по остановке реакции, а по возникновению свечения при медленном впускании кислорода через капилляр.
Семенов решил продолжить работу дальше. Подключил к ней молодого помощника Александра Шальникова (теперь члена-корреспондента АН СССР). Стали менять не давление кислорода, а объем сосуда. Брали колбы разных диаметров и смотрели, меняется ли величина критического давления. Меняется. Выписали его значения, написали рядом диаметры сосудов, посмотрели, посчитали; получалось - меняется оно обратно пропорционально квадрату диаметра. Так. Значит, есть четкая зависимость.
А если плавно менять объем сосуда?
Взяли большой цилиндрический сосуд, впустили в него немного кислорода так, чтобы его давление было ниже критического. Реакция не идет, все правильно. Потом стали потихоньку наливать в сосуд ртуть. Объем плавно уменьшался, давление росло, и вдруг в, какой-то момент фосфор вспыхнул. Давление? Так и есть критическое.
Как понять, почему молекулы фосфора не желают соединяться с молекулами кислорода до, какого-то давления, а потом начинают это делать весьма бурно, словно наверстывая упущенное? Семенов, подводя итог первым экспериментам, набросал эмпирическую формулу, которая, как-то описывала происходящие странности, учитывала влияние всех факторов на величину предельного давления кислорода. Но она не давала ответа на вопрос почему это происходит? Почему?
Конечно, это самый интересный для нас момент, когда ученого вдруг осеняет догадка, когда секунду назад еще ничего не было, кроме страстного желания понять, досады оттого, что ничего не получается, и кучи фактов, которые не знаешь, в, какой последовательности расставить, а потом, в следующее мгновение, в этом хаосе неожиданно забрезжит, какой-то еще неясный порядок, и вот уже факты строятся в стройные ряды, и держат равнение направо, откуда несется им навстречу блестящая идея.
Но, как остановить это сладостное мгновение? Далеко не всем счастливцам в науке удалось не только встретиться с озарением, но еще и запомнить все детали встречи.
Николай Николаевич честно признал «Я уж сейчас не помню хорошо, когда у меня мелькнула догадка.» Жаль, конечно.
Каждое открытие делает человек, ставший ученым по призванию. Ученый не специальность, ей нельзя обучить в институте. Можно обучить химии, можно - физике, но человек, получивший диплом, может, и не стать ученым, даже если он займет должность научного сотрудника, - до конца дней своих он останется холодным подмастерьем науки, если не будет в нем воспитана любовь к творчеству, охота к дерзновенным попыткам выйти за рамки существующих представлений, смелость перед признанными авторитетами, пусть даже чреватая иногда личными жертвами. Но кто воспитает любовь, привьет охоту, сделает смелым - кто, как не сама наука, всем своим прежним опытом, своей волнующей историей, открывающей горизонты не только в прошлое, но и в будущее. Только она, она сама способна разбудить в школьнике Лобачевского, обнаружить в студенте Менделеева, сделать переплетчика Фарадеем. Но для этого надо знать ее, знать в разные минуты ее вечной жизни, и, когда она скрытна и упряма перед бездельником, и, когда милостиво щедра к труженику; когда она изнурительная, скучная работа и, когда она праздник ума, и фантазии; когда ученый - ее поденщик и, когда он ее властитель. Поэтому нужны истории наук, поэтому нужны биографии ученых, поэтому нужны их мемуары-толстые, и тонкие, скучные и занимательные, любые, только бы достоверные, только бы приоткрывающие доступ чужой душе в переживания души собственной, чужому уму в лабиринты напряженных, молчаливых размышлений. Поэтому, и скорблю я, что нет сведений, как осенила Семенова счастливая догадка о том, что на свете, кроме неразветвленных цепных реакций, кроме боденштейновских цепей, есть еще и разветвленные цепи, и, что окисление фосфора идет именно по такому механизму.
Единственное, что известно, - что такая идея озарила его вдруг, и случилось это где-то в конце 1926 или в самом начале 1927 года.
Вспомнив механизм боденштейновских неразветвленных цепных реакций, Николай Николаевич ясно увидел, что окисление фосфора вроде бы похоже на боденштейновские цепи - длиной хотя бы, но идет совсем по-иному, с разветвлением. Реакция расползается в разные стороны, как ветви дерева, множась, и нарастая ежесекундно, как горная лавина, которая начинается с одного невинного камешка. Потому-то и выгорает с такой скоростью фосфор, когда давление кислорода выше критического.
Да, но почему тогда реакция вовсе не идет, когда оно ниже? Если записать формулу, связывающую критическое давление с размером сосуда чем он больше, тем значительно меньше давление. Если диаметр безгранично велик, давление выражается нулем; это значит, что если у сосуда нет стенок, то никакого критического давления не существует - реакция может идти, сколько ей влезет, пока разветвленная цепь не истощит запасы фосфора или кислорода.
Получается, что бурному развитию цепной лавины мешают стенки сосуда. Этот вывод неумолимо вытекал из формулы, следовательно, его нужно принять, а приняв, объяснить. Это сделать оказалось уже значительно легче. По словам Семенова, от анализа формулы до объяснения был всего один шаг. Небольшой шаг нужно было лишь предположить, что активные частицы, скажем, атомы кислорода, ударившись о стенку колбы, захватываются ею. После этого у них уже, что называется, связаны руки, и они не способны принять участие в цепной реакции. Каждый такой прилипший атом сидит на стенке, смотрит, как другие его товарищи активно участвуют в превращениях, и ждет, когда подойдет к нему другой атом, чтобы, соединившись, и образовав нейтральную молекулу кислорода, соскользнуть внутрь сосуда. Следовательно, цепь живет и разветвляется на участке от места ее зарождения до стенки. Чем уже сосуд, тем короче этот путь; при, каком-то малом диаметре большая часть цепей вообще не успеет разветвиться. И получится, что количество выбывающих из игры атомов кислорода превысит число вновь рождающихся. Так объяснял поначалу сам себе Семенов явление критического размера.
Убедившись, что новая гипотеза пока прекрасно все объясняла, он попытался уразуметь следующий непонятный казус - критическое давление. Его существование также логично вытекало из гипотезы. Поскольку размер сосуда в опытах Харитона и Вальта был неизменным, число гибнущих активных частиц на стенке также было постоянным, а количество новых активных атомов зависело от давления кислорода. Когда его становилось так мало, что смертность атомов превышала их рождаемость, реакция замирала и дремала до тех пор, пока давление кислорода не повышалось выше критического.
Оставалось объяснить последний опыт - с аргоном. Это оказалось совсем просто достаточно было представить, как инертные молекулы толкутся на дороге, по которой мчатся к стенке атомы кислорода, мешают им превышать скорость, охлаждают их пыл - вроде, как орудовцы на скоростных магистралях, и сразу становилось понятным, почему уменьшается при этом критическое давление атомы кислорода реже бьются о стенки, реже гибнут, им остается больше времени для разветвления, и поэтому для поддержания реакции достаточно меньшего их количества.
Я рассказываю о том, как мыслил себе Николай Николаевич Семенов события, происходившие в экспериментах с окислением фосфора, но я не могу здесь воспользоваться способом, каким ученый выражал свои представления; это не только, и не столько слова, это формулы и расчеты. Как ни логичны образные построения, если их не подкрепить математическими выкладками, вряд ли можно выходить на суд коллег; так, во всяком случае, принято в физике. Поэтому физик Семенов, неожиданно для себя оказавшийся втянутым в химическое изыскание, попытался прежде всего описать свою идею математически.
Когда была построена математическая теория разветвленных цепных реакций, автору открытия стало ясно, как он писал, «что полученные в опытах закономерности поразительно хорошо описываются теоретическими формулами». В тот момент, правда, ему еще не было ясно до конца, сколь значительно его открытие, как далеко оно простирает свое влияние среди химических процессов. Понимание обширности пришло позже, но, и тогда было достаточно причин, чтобы почувствовать радость и гордость за то, что сделано, и законное желание поделиться своей радостью с другими.
На ближайшем же заседании ученого совета Физико-технического института Семенов решил доложить о своих работах. С момента полемики с Боденштейном прошел почти год, за это время многие сотрудники института прочно уверовали в ошибку Вальта и Харитона, длительное молчание их руководителя только укрепило эту уверенность. Следовательно, предстояло не просто сообщить новость собравшимся, надо было еще, и преодолеть барьер предубеждения, существовавший между учеными, однажды уверовавшими в легкомысленность сотрудников лаборатории электронных явлений, и докладчиком, возглавлявшим эту лабораторию.
Начал свой доклад Семенов торжественно, как человек, сознающий значимость момента. Но вскоре сник. Он явственно ощущал скепсис слушателей - они не верили ни одному его слову. О, было довольно обидно, когда столь уважаемые люди, прозорливые ученые не желали замечать того нового, что содержало сообщение их коллеги. И главное, что, и учитель среди «Фом неверующих». Иоффе тоже кривит ус, вертит головой, не понимает того, что старается втолковать им вконец измучившийся от напряжения и обиды докладчик. Нет, не понимают ничего, это же ясно, вопросы такие задают, что даже отвечать не хочется. А уж возражают против самых очевидных предположений. Не поняли, не поняли, не захотели понять, не заставили себя вдуматься в новые данные, не дали себе труда отстраниться от старых представлений о механизме реакции, не усомнились в ошибочности боденштейновских возражений.
Легко можно понять состояние Николая Николаевича, который, по его собственным словам, «совершенно измучился, но так, и не смог убедить их в своей правоте». Обида и злость должны были остаться у него на душе после ученого совета, на который он возлагал столько надежд. И еще изумление по поводу очевидной слепоты, вернее, ослепленности учителя. Провожая его после совета домой, Семенов не утерпел, и высказал многое из того, что у него накипело на душе, а в заключение прямо заявил «Не пройдет и года, как все переменят свою точку зрения, согласятся со мной, поймут важное значение нашей теории.»
Семенов хоть, и в запале говорил это, но оказался прав даже меньше чем через год открытие цепных разветвленных реакций обрело право научного гражданства. И первым признал его Боденштейн.
В конце 1927 года Семенов вырвался ненадолго из круговорота многочисленных обязанностей, и уехал на озеро Селигер, чтобы там, на природе, в тиши, обобщить прежние наблюдения, прибавить к ним новые, появившиеся в последние недели, и попытаться создать более обширную теорию разветвленных цепных реакций. Конечно, прохаживаясь по берегу озера, думать легче, чем бегая между кабинетом и лабораторией не звонит теле фон, не заходят десять раз на день коллеги, не надо сидеть на совещаниях. И работа потому была написана очень быстро.
Вернувшись, Семенов доложил ее на ученом совете. Совсем недавно он стоял здесь же, на этом самом месте, у этой самой доски, перед этими же самыми людьми, и рассказывал им о том же самом открытии. Но тогда они были глухи к тому, что посчастливилось найти ему с помощью двух своих молодых сотрудников и умудренного в науках Боденштейна. Теперь все было по-иному. Радостью соучастия светилось лицо Абрама Федоровича Иоффе, внимательны были члены ученого совета, они поняли наконец, что присутствуют при рождении нового открытия, прославившего молодую советскую науку. Правда, «роды» по их милости были несколько запоздалые, но все же они состоялись. И поздравления после доклада были совершенно искренни. Кто-то, наверное, признал, что был неправ тогда, другие сочли за благо промолчать чего поминать старое?
Вскоре, в 1928 году, стало известно, что открытие Семенова подтверждается опытами молодого английского ученого из Оксфордского университета Хиншелвуда. За ними, и другие исследователи стали изучать новый механизм реакции.
Новая теория объясняла характер течения многих важнейших химических реакций, а главное, она позволяла во многих случаях управлять ими, в том числе таким коварным процессом, как горение. Нельзя сказать, что Семенов открыл горение топлива - оно было известно человеку с незапамятных времен, но только после открытия Семенова появилась реальная возможность так направлять горение, что минимум топлива давал максимум тепла. И хотя поначалу открытие относилось только к взаимодействиям газов, оно со временем было распространено самим ученым, и его учениками на жидкофазные реакции. И стало возможным сжигать нефть не полностью, не до воды, и углекислого газа, а получать наряду с тепловой энергией ценные химические продукты. Более того, с помощью новой теории можно было в, какой-то мере управлять горением твердых топлив, если они испаряются перед тем, как соединиться с кислородом.
Теория Семенова о цепных процессах, включая и разветвленные, и неразветвленные, привлекла внимание химиков всего мира, ибо очень скоро стало ясно, что цепные процессы весьма распространены, они диктуют свои законы таким распространенным реакциям, как полимеризация, хлорирование, сгорание топлива в двигателях.
В 1930 году Советское правительство организовало специальный Институт химической физики, где можно было по-настоящему широко развернуть работы в столь важной для науки области. Во главе института встал Н. Н. Семенов. В 1934 году Семенов, избранный только, что академиком, подвел итоги своего почти десятилетнего труда в монографии «Цепные реакции», в следующем году книга была переведена на английский и вышла в Англии, где продолжал успешно работать Хиншелвуд.
В 1941 году основатель нового раздела химической кинетики был удостоен Государственной премии, а в 1956 году, через 30 лет после открытия, вместе с Хиншелвудом получил Нобелевскую премию по химии. То была вдвойне радостная для нас победа премию получил первый советский ученый. До этого два русских исследователя удостоились столь высокой чести - Мечников, и Павлов, но было это еще до революции. Теперь же в Стокгольм отправлялся полпред советской науки. После еще пять наших физиков получат право именоваться лауреатами Нобелевской премии, но Семенов был первый.
О чем, интересно, думает ученый в те минуты, когда перед его награждением играет музыка, а шведский король готовится вручить ему символы международной славы и признания? К сожалению, далеко не всегда это известно широкой публике, ученые-лауреаты не часто вспоминают о личных переживаниях. Но здесь представляется редкий случай узнать совершенно точно, какие мысли проносились в голове 60-летнего прославленного академика, когда он сидел на сцене переполненного зала, взволнованный, и счастливый, и, пока играл оркестр, имел десять минут на то, чтобы перевести дух, расслабиться немного после начала и перед концом торжественной церемонии, и подумать о чем-то своем. О чем же?
Вот его воспоминания «Когда я слушал музыку, передо мной проносилось то незабываемое время 20-х и начала 30-х годов, когда я, еще молодой человек, и мои дорогие товарищи, тогда еще совсем юные сотрудники лаборатории, в институте за экспериментальными установками и дома за письменным столом переживали самые яркие радости творчества, когда каждый день приносил нам новые загадки, и, когда эти загадки мы в конце концов с успехом решали и сквозь, казалось бы, непроходимые дебри пробивали новые пути»
История открытия такова, что здесь есть, что вспомнить. Дело не только в обстоятельствах открытия, хотя, и они, конечно, невольно должны запасть в душу -, а ведь память сердца, как известно, сильней рассудка памяти холодной, - дело еще и в последствиях, какие имело открытие для всей науки. Не только для химии - для физики. И это должно было быть особенно значимо для его автора ведь он был физиком. Физике обучался в университете, физикой шел заниматься к Иоффе после окончания, о физических открытиях мечтал, вероятно, холодными, голодными ночами в Петрограде. И когда через 12 лет оказалось, что идея разветвленной цепной реакции применима не только к химическим процессам, но, и к процессам ядерным, Николай Николаевич, как мне кажется, непременно должен был почувствовать радость и удовлетворение тем, что идея, высказанная физиком, вернулась на круги своя, в физику же.
Речь идет о ядерной цепной реакции деления урана. Она была предсказана в 1938 году Фредериком Жолио-Кюри, и Ф. Перреном и осуществлена впервые 2 декабря 1942 года в Чикагском университете итальянским физиком Энрико Ферми. Конечно, ядерная цепная реакция отличается от химической - иные частицы участвуют в ней, на ином уровне идет процесс, и с иными последствиями, но формальные закономерности здесь те же, и те же критические условия включают, и выключают цепь. И если нельзя сказать, что физики просто позаимствовали теорию своего бывшего коллеги, то высказать предположение, что они воспользовались ее основами, и тем самым значительно сократили время поисков, можно, и нужно.
Наверное, и об этом думал Николай Николаевич декабрьским днем 1956 года. А может, еще, и о будущем своего открытия и в этой связи - о биологии, где цепные процессы могут оказаться столь же важными, как, и в ее сестрах - химии и физике.
Возможно, он вспоминал то вроде бы случайное стечение обстоятельств, что заставило его самого взяться за исследование. Но случайно ли было оно? Конечно, приход в лабораторию Зиночки Вальта - явный случай, но идея-то о горении фосфора уже была высказана к этому времени; она лишь ждала своего часа. Конечно, Боденштейн мог, и не обрушиваться на молодых ленинградских физиков желание понять непонятное все равно привело бы их руководителя к открытию, только случилось бы это чуть позже. Наверное, для самой Вальта ее работа и впрямь была случайна - не ею задумана, не ею понята. Но для Семенова она логически вытекала не столько из тематики его исследований того времени, сколько из их духа - духа новаторства, молодости, неустрашимости перед авторитетами. Нет, нет, недаром говорил великий Пастер, что «счастливая случайность выпадает лишь на долю подготовленных умов». Вероятно, никто не был подготовлен к встрече с разветвленными цепями более Семенова, хотя видели воспламенение тысячи химиков. Но они удивлялись этому исключению из всех существовавших правил, пожимали плечами, и проходили мимо. И только одному из них удалось понять его истинную причину.
Конечно, когда смотришь назад, все представляется простым, и понятным кажется даже странным, как это можно было сомневаться в чем-то, долго не решаться, что-то сделать, но те, кто пробивается вперед «сквозь, казалось бы, непроходимые дебри», всегда вынужден сомневаться, ибо дороги впереди нет, и ее приходится строить, как говорил немецкий физик Макс Борн, позади себя.
Семенов проложил широкую дорогу. По ней уже 40 лет идут многие ученые мира, и еще долго останется она оживленной магистралью науки. Но, как бы далеко от начала ни ушли мы, следует помнить, что, когда-то ее вовсе не было на карте естествознания, и один из наших современников первым вошел в дремучий лес неизвестности.