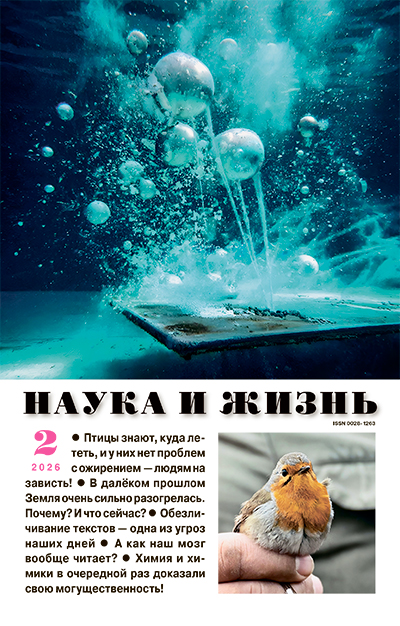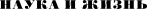Л. Д. Ландау
Любая противораковая терапия чревата побочными эффектами, потому что под удар попадают не только раковые клетки, но и вполне здоровые. Побочные эффекты порой оказываются столь тяжелы, что практически сводят на нет противораковый успех. Львиная доля исследовательских усилий в этой области посвящена поиску нетоксичной терапии, которая была бы безвредной в отношении организма, его тканей и органов. Но, конечно, в отношении опухолевых клеток такая терапия должна оставаться очень токсичной и очень агрессивной.
Наш собственный иммунитет, если можно так сказать, практикует нетоксичную терапию. Патологические клетки, злокачественные или инфицированные, должны быть уничтожены. Одни из главных исполнителей здесь — специальные лимфоциты, называемые цитотоксическими. Цитотоксический лимфоцит вводит в патологическую клетку свои агрессивные соединения (интерфероны, ферменты, оксид азота NO, дофамин и т. п.), которые запускают программу клеточного самоуничтожения (апоптоз), и в итоге клетка аккуратно разрушается. Важно, что токсические вещества вводятся из лимфоцита непосредственно в больную клетку. Лимфоциты не выливают своё лекарство абы где в надежде, что оно рано или поздно доберётся до цели, — их агрессивные соединения не проходят системно по всему организму, как это бывает, например, при лечении химиопрепаратами. Действия лимфоцитов безвредны для организма, будучи агрессивными только в отношении аномальных клеток. Залог этого — непосредственный контакт между лимфоцитом и целевой клеткой, который обеспечивается сложным адгезионным аппаратом.
Адгезия между клетками при опухолевом росте
Около 50 лет назад группа учёных из Института экспериментальной онкологии в составе тогдашнего Всесоюзного онкологического научного центра Академии медицинских наук СССР (впоследствии переименованного в Национальный медицинский исследовательский центр онко- логии им. Н. Н. Блохина) начала изучать адгезионные взаимодействия между клетками — в нормальной ткани, в опухолевой, а также в ткани, предрасположенной к опухолеобразованию. Клеточную адгезию нередко упрощают до прилипания или слипания клеток с субстратом или друг с другом. Однако это «прилипание» означает не просто механическую фиксацию, но и обмен специфическими сигналами, влияющими на состояние клеток. Ключевую роль в адгезии играют белки контактины-кадхерины. Было выявлено, что они повышают устойчивость ткани к злокачественному новообразованию, иными словами, подавляют рост опухолей. Сила сцепления между клетками (взаимная адгезивность) в ткани, обусловленная, вероятно, содержанием контактина в области межклеточного соединения, влияла на устойчивость ткани к опухолеобразованию1. Число высокоадгезивных участков в устойчивой ткани печени мышей оказалось в три раза больше, чем у мышей, предрасположенных к печёночным опухолям, что видно по электронной микроскопии.
Адгезия помогает клеткам оставаться в зрелом, дифференцированном состоянии. С помощью правильных адгезионных контактов клетки, так сказать, постоянно напоминают друг другу, чем они должны заниматься. Если контакт нарушен, клетка забывает про свои функции и пускается в пляс беспробудного размножения, то есть становится «асоциальной», опухолевой. На следующем этапе она теряет контактные молекулы, которые отвечают за взаимодействие с иммунитетом. Из-за этого цитотоксические лимфоциты, о которых говорилось выше, не могут состыковаться со злокачественными клетками2.
Адгезионный аппарат существует не сам по себе. На него влияют биохимические, клеточные, физиологические процессы, которые, на сторонний взгляд, не должны иметь никакого отношения к межклеточному сцеплению. Например, дофамин «в миру» известен преимущественно как нейромедиатор, который используется в мозговых центрах, отвечающих за эмоциональную, мотивационную и двигательную сферы. Но кроме этого центрального дофамина есть дофамин периферический, основные запасы которого содержатся в тромбоцитах и лимфоцитах. Дофамин лимфоцитов способствует их миграции в опухоль и помогает им войти в контакт с опухолевыми клетками. А для самих опухолевых клеток дофамин является своего рода токсином, который подавляет их деление и развитие питающих их сосудов. Иными словами, дофамин играет довольно важную роль в иммуноадгезионных механизмах, обеспечивающих целенаправленную борьбу иммунных клеток с патологическими. При этом периферический дофамин зависит от центрального.
В связи с дофаминовыми механизмами мы неизбежно приходим к проблемам хронического стресса и старения, которые, среди прочего, бьют по дофаминергическим нейронам мозга. Потеря дофаминергических нейронов в мозге сказывается на периферическом дофамине со всеми вытекающими последствиями для клеточной адгезии3. Известно, что вероятность очень многих онкозаболеваний повышается с возрастом, то же самое говорят про хронический стресс. Значимую роль здесь играют возрастные и стрессовые адгезионные аномалии, возникающие в том числе из-за проблем с дофамином. Если мы поможем клеткам поддерживать в порядке их адгезионные механизмы, то, во-первых, сама ткань начнёт лучше сопротивляться появлению опухолей, во-вторых, иммунная система будет эффективнее истреблять опасные клетки, если они всё-таки появятся. Однако в поиске таких адгезиостимулирующих и адгезиокорректирующих инструментов нужно учитывать большой комплекс явлений, связанных с нервной системой и иммунитетом, со старением и стрессом.
Фитоадаптогены как адгезиокорректоры
Самый очевидный способ поддержать правильные межклеточные контакты — использовать белки адгезии. Однако они часто оказываются очень капризными, неустойчивыми, ненадёжными в работе. Есть ли какие-то более удобные вещества, которые могли бы содействовать здоровой адгезии? Да, есть. Например, экстракт корня женьшеня — известно, что он (да и не только он) обладает адгезиогенным действием, усиливая взаимное сцепление клеток печени, предрасположенной к развитию гепатокарцином.
Здесь сходятся две дороги: фундаментальные исследования адгезионных взаимодействий в биологии рака и растительные препараты на основе женьшеня, элеутерококка, золотого корня и др., которые с глубокой древности используются в народной медицине для повышения выносливости и выживаемости. Подобные препараты, а также растения, из которых их получают, называют фитоадаптогенами. Русский термин «адаптоген», широко использующийся и в зарубежных публикациях, был введён в научную литературу в середине XX века советским фармакологом Николаем Васильевичем Лазаревым, профессором Военно-морской медицинской академии в Ленинграде. В своих работах он опирался на результаты интенсивных исследований в СССР лимонника китайского (Schisandra chinensis) во время Второй мировой войны, имевших целью найти альтернативу стимуляторам, которые использовали в Германии и Великобритании для повышения внимания и выносливости пилотов. В свою очередь, интерес к S. chinensis возник вследствие этнофармакологических исследований Владимира Леонтьевича Комарова (1895) и Владимира Клавдиевича Арсеньева (1903—1907). Ягоды и семена лимонника использовали охотники-нанайцы в качестве тонизирующего средства для уменьшения жажды, голода и истощения, а также для улучшения зрения вообще и ночного зрения, в частности.
Н. В. Лазарев считал, что адаптогены вводят организм в состояние неспецифически повышенной резистентности (сопротивляемости, устойчивости к различным факторам), улучшая эффективность работы клеток, тканей и систем. Советские учёные исследовали разные растения-адаптогены. Вслед за лимонником в научные лаборатории пришёл и женьшень, и многие другие адаптогены. В 70-х годах некоторые из этих растений были включены в официальную медицинскую практику в СССР как стимулирующие и тонизирующие средства. Адаптогены применяли в гериатрической, космической, спортивной медицине, в медицине труда. Их использовали советские космонавты во время полётов на станцию «Мир», лётчики и спортсмены, а также матросы на борту судов и на подводных лодках в длительных арктических, антарктических или тропических экспедициях. Так что интерес онкологов к этим препаратам был неудивителен. Начало положил тот же Н. В. Лазарев. Исследования на животных под руководством его последователей, в том числе профессора Израиля Ицковича Брехмана и академика Евгения Даниловича Гольдберга, показали противоопухолевые свойства элеутерококка, женьшеня, родиолы розовой и др. Первым, кто продемонстрировал высокую эффективность фитоадаптогенов в онкологической клинике, стал профессор Владимир Иванович Купин из Онкоцентра им. Н. Н. Блохина РАМН. Мы считаем его нашим «научным отцом» (а Брехмана и Гольдберга, соответственно, нашими «научными дедами»). И уже в наших исследованиях с экстрактом родиолы розовой мы показали, что взаимная адгезивность гепатоцитов (клеток печени, составляющих основную её массу) напрямую связана с реакциями клеточного иммунитета при развитии гепатокарцином. С помощью фитоадаптогенов удалось связать вместе адгезионные взаимодействия между клетками ткани и в реакциях иммунитета.
Обычно когда говорят о природных биоактивных веществах, имеют в виду какое-то чистое соединение, отдельную молекулу. Из растений-адаптогенов, конечно, такие соединения тоже были выделены. Однако именно отдельные соединения оказались по многим причинам не очень удобны в использовании и в том числе потому, что у них низкая биодоступность, они быстро выводятся из организма, наконец, они исключительно токсичны. Поэтому приходилось возвращаться к экстрактам. Но у экстрактов отдельных растений-адаптогенов тоже есть большой минус — быстро нарастающая толерантность: через 2—3 месяца применения они перестают действовать на организм, что, естественно, препятствует их внедрению в онкологическую клинику.
Есть другой путь — путь фитокомплексов. Их составляют из компонентов разных экстрактов: вместе они дают уникальные синергетические эффекты, которые невозможно получить ни с одним ингредиентом в отдельности4. В нашей работе исследования фитокомплексов оказались наиболее перспективными: они не токсичны, как отдельные чистые соединения, и к ним не возникает толерантности, как в случае экстрактов отдельных растений.
От экстракта к препарату
Материалом для нашей фитокомпозиции послужили более чем 50 растительных экстрактов. Их подбирали с учётом того, насколько эффективно они подавляют размножение опухолевых клеток карциномы яичников человека и как они действуют на лимфоциты онкобольных с различными опухолями. Эффективность и безопасность получившегося препарата, названного мультифитоадаптогеном (МФА), проверяли во множестве тестов.
В экспериментах с культурами опухолевых клеток человека МФА подавлял их деление, при этом никак не влияя на деление нормальных клеток, — иными словами, его действие было избирательным, нетоксичным для здоровых тканей. В экспериментах с пекарскими дрожжами Saccharomyces cerevisiae МФА показал высокую антимутагенную активность, снижая уровень спонтанных и индуцированных мутаций. МФА препятствовал метастазированию — это было продемонстрировано на мышах с карциномой лёгкого Льюис. МФА также показал высокую радиопротекторную (в опытах на мышах и собаках) и нейропротекторную активность (в опытах на мышах с моделью паркинсонизма). Болезнь Паркинсона в первую очередь губит дофаминергические нейроны, и смысл таких экспериментов легко понять с учётом того, что было сказано про роль дофамина и дофаминергических нейронов в адгезии. Проверка радиопротекторных свойств тоже становится ясной, если вспомнить, что противораковая радиотерапия также чревата побочными эффектами, которые нужно как-то смягчать.
Токсикологические исследования на мышах и крысах показали, что МФА может быть отнесён к VI классу токсичности в соответствии с классификацией ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), то есть является относительно безопасным препаратом.
Эти результаты позволили перейти к клиническим исследованиям. В них участвовали пациенты с оральной лейкоплакией (предраковое состояние слизистой оболочки полости рта), инкурабельным раком желудка IV стадии, доброкачественной гиперплазией простаты, которая возникает с возрастом у мужчин вместе с гормональными нарушениями, и болезнью Паркинсона. Везде была выявлена высокая клиническая эффективность МФА и отсутствие толерантности к препарату у пациентов5.
Хотя предполагалось, что МФА должен действовать на адгезионный аппарат, перечисленные исследования указывали на это лишь косвенно. Чтобы в явном виде показать способность МФА влиять на адгезионные механизмы, мы провели масштабный опыт на 997 мышах-самцах, предрасположенных к гепатокарциномам в 100% случаев (иными словами, у каждого самца в течение жизни неизбежно возникала злокачественная опухоль печени). МФА давали мышам в двух режимах, профилактическом и лечебном. Препарат стимулировал синтез адгезионных белков (в данном случае — β2-лейкоцитарных интегринов) на Т-лимфоцитах крови, благодаря чему они активнее мигрировали в опухолевые узлы. Это были цитотоксические Т-лимфоциты — они проникали в опухоль, чтобы в плотном контакте с опухолевыми клетками обработать их своим «биохимическим оружием». Усиленный приток Т-клеток в гепатокарциномы и более активный синтез в этих Т-клетках белков интегринов говорит о том, что эффект МФА обусловлен его влиянием на иммуноадгезионные механизмы. Кроме того, МФА предотвращал гибель дофаминергических нейронов в мозге.
Частота возникновения опухолей падала на 30% (а те, что возникали, были меньших размеров, чем у мышей, не получавших МФА). Животные активнее двигались, у них были менее выражены симптомы саркопении (возрастной атрофии скелетных мышц), и с возрастом они не так интенсивно теряли шерсть. У них снижался уровень гормона кортикостерона — одного из главных маркеров стресса — и повышался уровень тестостерона, который можно назвать гормоном молодости. Иными словами, у мышей, получавших МФА, старение и стресс проявлялись слабее. Средняя продолжительность жизни у них увеличилась на 16% при профилактическом воздействии МФА и на 24% — при лечебном воздействии. Если переносить это на человека, то получится, что контрольные мыши, не получавшие МФА, жили в среднем 62 человеческих года, мыши на профилактическом режиме МФА жили в среднем 70 лет, на лечебном режиме — 75 лет. Важно уточнить, что эти результаты были получены на больших группах животных: на «доживание» оставляли по 100 особей в группе. Также нужно отметить, что эти экспериментальные мыши, несмотря на возникновение у них опухолей в 100% случаев, живут как здоровые животные — около двух лет. На них правомочно оценивать геропротекторы — препараты, вероятно, удлиняющие жизнь. Поэтому в данном случае МФА можно назвать эффективным геропротектором.
Любой препарат, любой реактив, любое соединение должны быть стандартизованы. Грубо говоря, мы должны быть уверены, что следующая партия препарата работает точно так же и содержит те же вещества и в тех же пропорциях, что и предыдущая. Без этого невозможны ни фундаментальные исследования, ни практическое применение. Без стандартизации не получится ни правильно дозировать препарат в клинике, ни бороться с подделками. Для таких сложных систем, как МФА, стандартизация всегда была больным вопросом. И для решения его мы использовали комплекс биологических и физико-химических методов.
Биологическую стандартизацию проводили с помощью пекарских дрожжей, сравнивая процессы гликолиза и глюконеогенеза. Гликолиз (процесс окисления глюкозы) происходит в дрожжах, когда они растут на питательной среде, богатой глюкозой (сахаром). В бедной питательной среде, где глюкозы мало, но есть неуглеводное сырьё, например этанол, дрожжи имеют возможность создать себе больше «корма» с помощью глюконеогенеза, при котором неуглеводные соединения превращаются в глюкозу. Рост дрожжей можно описать определёнными закономерностями и выразить их математически. Эти закономерности будут отличаться у дрожжей, живущих в разных условиях. Если в среду, в которой глюкозы мало, но зато есть этанол, добавить адаптоген, то с ним этанол начнёт эффективно трансформироваться в глюкозу. Скорость роста дрожжей будет меняться в зависимости от вида адаптогена и его концентрации. Эти изменения отразятся на коэффициенте в уравнении функции, описывающей рост дрожжей. Проверяя на лабораторных дрожжах разные препараты адаптогена, по математическим коэффициентам в уравнениях можно понять, как отличаются эти препараты. Это позволит точно охарактеризовать их и стандартизировать.
Что до физико-химических методов, то тут качественный и количественный состав МФА анализировали с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса, ультрафиолетовой спектроскопии, различных видов масс-спектрометрии и хроматографии. В составе МФА выявлено 70 мажорных (главных) соединений. Их противоопухолевые эффекты и механизм действия сопоставлялись и соединялись компьютерными методами. Этот анализ также показал, что МФА может служить потенциальным профилактическим и лечебным противоопухолевым средством, которое одновременно является геро-протектором, проявляющим комплексное действие на организм. Сейчас МФА зарегистрирован как парафармацевтик, и в перспективе он должен стать основой для лекарства, предназначенного для профилактики и терапии рака, а также других заболеваний, сопутствующих старению.
Ещё раз окинем взглядом путь, который привёл к появлению МФА, от этнофармакологических исследований, уходящих корнями в XIX век, до процедур стандартизации препарата, выполняемых во всеоружии методов века XXI. Дореволюционные наблюдения за дальневосточными народами дали толчок к изучению растений-адаптогенов, а теория клеточной адгезии помогла сфокусироваться на механизме их действия. Знания об адгезионных взаимодействиях помогли понять, что и как следует изучить в первую очередь в адаптогенных экстрактах, каким путём нужно идти, чтобы разработать действительно эффективный препарат.
Эти исследования никак нельзя назвать случайным ответвлением в биомедицинской области, они встроены в большой контекст мировой науки. Накапливающиеся данные по адгезии выкристаллизовались в теорию топобиологии, разработанную американским иммунологом и нейрофизиологом, нобелевским лауреатом Джеральдом Морисом Эдельманом. Сам Эдельман говорил преимущественно о морфогенезе: через различные адгезионные взаимодействия он объяснял развитие многоклеточного организма, который со всеми своими тканями и органами вырастает из одной-единственной клетки.
Современная топобиология во многом сфокусирована на опухолевых процессах, и в её рамках удалось чётко описать то, о чём мы уже говорили выше, — что устойчивость ткани к злокачественным новообразованиям снижается из-за аномалий в адгезионных взаимодействиях, поддерживающих клетки в дифференцированном состоянии. Развитие онкологической топобиологии открывает путь эффективным препаратам с адгезиогенным, иммуномодулирующим и нейропротекторным действием6. В качестве примера, помимо нашего МФА, можно привести противоопухолевые средства, которые в 2022 году находились на первой фазе клинических испытаний. Информация об этих средствах содержится в международной базе данных Сortellis Drug Discovery Intelligence: они являются аналогами тех самых белков адгезии, которые поддерживают правильные контакты в тканях и, получается, работают как стимуляторы адгезии в иммунных реакциях, помогая цитотоксическим Т-лимфоцитам проникнуть и закрепиться в опухоли. Всё это лишний раз подчёркивает актуальность и своевременность наших исследований.
Нельзя не сказать, что в этих масштабных работах принимали участие коллективы 11 институтов нашей страны, а научными наставниками и исследователями были известные учёные: Леон Манусович Шабад, Андрей Георгиевич Маленков, Елена Алексеевна Модянова, Раиса Георгиевна Бутенко, Михаил Иванович Давыдов, Всеволод Иванович Огарков, Анатолий Андреевич Воробьёв, Владимир Александрович Княжев, Рахим Мусаевич Хаитов, Николай Павлович Бочков, Георгий Николаевич Крыжановский, Анатолий Юрьевич Барышников, Леонид Андреевич Ильин, Феликс Иванович Ершов, Анатолий Анатольевич Клименков, Борис Павлович Матвеев, Всеволод Борисович Матвеев, Владимир Васильевич Поройков.
Что до лекарственных средств, происходящих из народной медицины, то их важность для современной науки вряд ли нужно кому-то доказывать. Достаточно вспомнить Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2015 года за лекарство от малярии, которое сделали по мотивам рецепта из древнекитайского трактата. В 2022 году во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) был учреждён глобальный Центр традиционной медицины, призванный соединить её потенциал с современной наукой и технологиями на благо людей всего мира. Если говорить о нашей стране, то в прошлом году Совет Федерации призвал Минздрав обратить внимание на поддержку и финансирование отечественных препаратов на основе лекарственных растений.
Однако обычный растительный экстракт весьма далёк от настоящего лекарства, сколь бы многообещающим он ни выглядел поначалу. ВОЗ не зря говорит о современной науке, которая должна использовать потенциал народной медицины, и дело тут не только в стандартизации и идентификации активных веществ в экстракте. Те результаты, которых мы добились с МФА, стали возможны благодаря комплексным исследованиям в области генетики, эмбриологии, иммунологии, нейробиологии и т. д., позволившим связать в непротиворечивое целое то, что на первый взгляд кажется никак не связанным. В нашей работе соединены представления об адгезионных механизмах развития злокачественных новообразований с такими факторами риска, как старение и хронический стресс, а чтобы их соединить, нужно было взглянуть на проблему сквозь комплексную биомедицинскую призму. Именно такой подход позволяет увидеть перспективы регуляторных адгезиогенных препаратов, среди которых МФА — лишь один из возможных примеров. Подобные препараты могут пригодиться не только в эффективной профилактике и нетоксичной терапии злокачественных новообразований, они также могут применяться против различных возрастных патологий, повышая качество и продолжительность жизни современных людей, работающих иногда во вредных условиях труда или живущих в постоянно меняющейся и далеко не всегда благоприятной окружающей среде.
Наука — это воображение, служащее проверяемой истине, и это служение действительно является общим. Это не может быть жёстко спланировано. Скорее, это требует свободы и мужества, а также множественного вклада разных людей, которые должны поддерживать свою индивидуальность, отдавая её сообществу.
Джеральд Морис Эдельман.
Комментарии к статье
1 Маленков А. Г., Бочарова О. А., Модянова Е. А. Явление увеличения сил сцепления при межклеточном взаимодействии в эпителиальных тканях в раннем постнатальном периоде. Диплом на открытие № 330. Сборник кратких описаний открытий, внесённых в Государственный реестр открытий СССР // ГК по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР. М., ВНИИПИ, 1988, с. 30—31.
2 Подробно об адгезионной динамике при злокачественном перерождении клеток рассказывается в статье: Бочарова О., Кучеряну В. Потеря контакта. Адгезия в биологии рака. «Наука и жизнь» № 2, 2023 г.
3 См. статью: Бочарова О., Кучеряну В. Дофамин, старение, стресс и рак. «Наука и жизнь» № 2, 2021 г.
4 Бочарова О. Фитоадаптогены против опухолей. «Наука и жизнь» № 3, 2009 г.
5 Бочарова О. А., Барышников А. Ю., Давыдов М. И. Фитоадаптогены в онкологии и геронтологии. — М.: МИА, 2008. — 218 с.
6 Бочарова О. А., Карпова Р. В., Бочаров Е. В., Шевченко В. Е., Шейченко О. П., Кучеряну В. Г., Казеев И. В., Косоруков В. С., Пятигорская Н. В., Матвеев В. Б., Стилиди И. С. Геропротекторы-адаптогены для профилактической онкологии и возрастных заболеваний. — М.: Академия Принт, 2024. — 566 с.