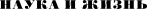Маленькая, но важная
О предстательной железе рассказывает врач-онколог Бениамин Ханалиев.
Рак предстательной железы занимает одно из лидирующих мест среди злокачественных заболеваний мужского населения. В нашей стране он занимает печальное второе место среди заболеваемости раком и третье — среди смерти от него.Правда ли, что таких пациентов становится всё больше и, если да, то почему? Как выявить рак предстательной железы на ранних стадиях и можно ли его полностью излечить? Какие методы диагностики и лечения сегодня лидируют? Об этом рассказывает Бениамин Ханалиев, доктор медицинских наук, профессор, заведующий урологическим отделением, врач-онколог Национального медико-хирургического Центра им. Н. И. Пирогова.
— Бениамин, замечаете ли вы, что количество пациентов с раком предстательной железы объективно растёт или это связано только с улучшением диагностики?
— Количество таких пациентов на самом деле увеличилось, но с чем это связано, сказать трудно, потому что диагностика, действительно, совершенствуется, становится более доступной. Поэтому всё чаще мы имеем дело с ранними стадиями заболевания, что критически важно для результата лечения. Хотя теоретически я не исключаю возможности, что и независимо от диагностики таких пациентов становится больше.
— Если это так, с чем вы это связываете?
— Состояние организма современного человека зачастую хуже, чем у наших предков. Это связано с экологией, питанием, стрессами. Для меня, очевидно, что стресс — составной фактор любого нарушения, которое потом может привести к заболеванию.
— Стресс сопровождает человечество всю историю его существования, тем не менее, прежде это куда реже приводило к таким последствиям. Что случилось? Может быть, мы стали менее устойчивы к стрессам?
— Люди умственного труда, офисные работники намного тяжелее переносят стрессы, чем люди, работающие физически. Когда ты каждый день идёшь на завод или спускаешься в шахту, понятно, что там другие стрессы, но здоровье у этих людей обычно лучше, хотя стареют, физически изнашиваются они раньше. Однако в плане психологических травм они намного более устойчивы. Это видно даже по их реакции, когда сообщаешь диагноз. Если говоришь это людям физического труда, они относятся к этому более спокойно, воспринимают как данность, а не как трагедию.
— Интересно, а кто воспринимает новость о таком диагнозе спокойнее — мужчины или женщины, спутницы ваших пациентов?
— Женщины. Даже если говоришь мужчине, что ни в коем случае не надо отчаиваться, болезнь находится на ранней стадии, когда мы в большинстве случаев можем её вылечить, — у них наступает ступор, они как будто тебя не слышат. Очень часто именно жёны становятся для них тем фактором, который заставляет их лечиться и в итоге вылечиваться.
— Точно так же, как женщины ведут их за руку сдавать анализ на простат-специфический антиген (ПСА), в то время как сами мужчины зачастую не считают это важным. А ведь именно этот показатель на сегодня является главным сигналом неблагополучия. Если ПСА повышен, как правило, направляют на биопсию — процедуру небезболезненную и довольно инвазивную. Вот на это уговорить мужчину уже куда труднее. Действительно ли это так необходимо?
— Существуют различные точки зрения, связанные с тем, что уровень ПСА не всегда определяет наличие или отсутствие рака. Есть понятие так называемых подпороговых уровней ПСА. Встречаются случаи, когда даже при очень высоком уровне ПСА рак простаты не обнаруживается, в то время как бывает и наоборот — у молодых пациентов с практически нормальным уровнем этого антигена мы видим довольно агрессивную, распространенную форму рака. Таких пациентов уговорить пойти на биопсию очень тяжело.
Сейчас появилось немало врачей и учёных, в том числе отечественных, которые выступают против биопсии (при отсутствии абсолютных показаний, конечно) именно по той причине, что это инвазивная процедура, которая может привести к инфекционно-воспалительным заболеваниям. Есть риск даже сепсис получить. Однако, если мы говорим о биопсии как о методе выявления для последующего лечения рака, то все остальные соображения, на мой взгляд, уходят на второй план.
— А заменить биопсию ничем нельзя?
— Есть различные альтернативные методики, которые служат хорошим подспорьем, однако полностью заменить биопсию они не могут. На сегодня это самый точный и надёжный метод диагностики. Ранние раки сегодня лечатся в большинстве случаев, если вовремя его выявить. Я считаю, что установленный диагноз всегда лучше неустановленного.
— Бытует мнение, что биопсия может провоцировать рак. Это так?
— Ни в коей мере. Проводилось множество наших и зарубежных исследований, которые установили, что никакой корреляции тут не существует, поэтому такого рода осложнений можно не опасаться.
— Существует две полярно противоположных точки зрения среди людей, занимающихся изучением рака. Одни говорят, что полностью вылечить рак нельзя, другие — что в ряде случаев он полностью излечим. Вы сказали, что на ранних стадиях большинство случаев рака предстательной железы можно излечить. Что это значит?
— Вопрос непростой и неоднозначный. Если мы говорим о раке, вызванном генетическими причинами, то понимаем, что несмотря на успешное лечение рецидив может произойти в любой момент. Однако мы действительно научились эффективно лечить рак предстательной железы, и когда мы говорим пациенту, что ни в коем случае не надо отчаиваться, потому что прогноз хороший, то это чистая правда. Иной раз повторяешь это пациенту много раз, добиваясь, чтобы он тебя услышал и тебе поверил.
— Почему это важно?
— Психологический настрой пациента на победу крайне важен. Когда он идёт на операцию, уверенный, что всё получится (а ранние раки простаты, повторюсь, дают возможность на это рассчитывать), то и результат всегда будет лучше. Мой опыт показывает, что рак, который пациент хочет победить вместе с врачом, лечится эффективнее, чаще достигается стойкая ремиссия без возможностей рецидива.
Хотя всегда есть какие-то исключения, индивидуальные особенности, редкие случаи. Для меня потрясением было оперировать пациента возрастом младше себя. 39 лет — а там крайне агрессивный, низко дифференцированный рак. При этом ПСА был меньше десяти. Операция стала для него первым этапом лечения. Потом пришлось проводить лучевую терапию, затем — гормональную. Но сейчас, когда пошёл уже третий год после пройденного комплексного лечения, удалось достичь стойкой ремиссии. А походи он ещё пару лет — и спасти его уже вряд ли удалось бы.
— При раке предстательной железы, как правило, рекомендуют радикальную простатэктомию, где также существуют разные подходы. Некоторые врачи говорят, что вместе с простатой в обязательном порядке надо удалять и лимфоузлы, что вызывает ряд послеоперационных осложнений. Другие полагают, что это совсем не обязательно. Точно так же есть разные взгляды на нервные узлы, окружающие органы. Есть ли какие-то протоколы, где чётко прописано, когда и что надо удалять?
— Существуют клинические рекомендации, которых мы все придерживаемся. В частности, там говорится, при каких показателях ты обязан удалять лимфоузлы, а когда это не показано. Но рекомендации — это не протоколы. У каждого врача есть своя практика, свой опыт, на основании которого он тоже делает те или иные выводы, иногда интраоперационно. На это влияет и то, что он лично видит в результате операций и лечения, и общение с коллегами, и прочитанная литература. В результате может сложиться своё видение ситуации, хотя, если оно будет принципиально различаться с клиническими рекомендациями, то это будет неправильно или даже преступно.
С лимфоузлами всё просто. Если там имеются метастазы, на мой взгляд, тут операцию лучше вообще не делать. Есть исключительные случаи, когда выражена аденома, и тогда качество жизни из-за нарушения мочеиспускания страдает. В этом случае нужна операция как первый этап, когда убирают сам массив железы, улучшая качество жизни и восстанавливая мочеиспускание.
Но при этом мы понимаем, что человек будет продолжать лечение в виде облучения и гормональной терапии. Иначе говоря, для удаления лимфоузлов есть чёткие рекомендации, и они ни для кого не секрет.
Если же лимфоузлы убирают на всякий случай, как я говорю — бонусом, то смысла в этом я не вижу. На мой взгляд, тут вреда значительно больше, чем пользы, поскольку такие пациенты намного тяжелее восстанавливаются. Это травматичная для человека и для организма в целом процедура, когда может развиться лимфорея, лимфоцеле, воспаления, отёки. Это отдельная система, которую без необходимости лучше не трогать. Я не раз видел таких пациентов. Их приходится потом долго долечивать.
— А что по поводу сохранения сосудисто-нервных пучков?
— Тоже ничего сложного. Если имеет место местнораспространённый процесс, периневральная инвазия или капсулярная задействованность, то показаний к их сохранению нет.
Хотя везде есть свои «но». Современные методы дают возможность частичного сохранения пучков. Если раньше это считалось большой редкостью и удачей, когда врачи как чудо воспринимали эрекцию после такой операции, то сейчас, удаляя прилежащую к простате часть пучков или «пучок» только с одной стороны, мы можем полностью или частично сохранить эту функцию.
Понятно, что главная наша задача — убрать всё то, что может в дальнейшем вызвать рецидив, но всё чаще получается сохранить глубоко лежащие нервные пучки, что позволяет восстановиться эрекции. Это всегда радостно не только для пациента, но и для врача.
— Некоторые хирурги начинают радикальную простатэктомию с удаления лимфоузлов, настолько считают это важным. Вы эту точку зрения не разделяете?
— Если консилиумом, который всегда проводится перед планируемой операцией, определено удалить предстательную железу с лимфаденэктомией, то я начинаю эту операцию с удаления простаты. Наверное, это вопрос привычки или удобства. Для меня удаление простаты всегда стоит на первом месте, хотя иногда может возникнуть и интраоперационное решение о необходимости удаления лимфоузлов (как сам факт, так и первым этапом перед простатэктомией), если мы бригадой видим, что риски поражения лимфоузлов высоки. Этот риск мы всегда предварительно согласуем с пациентами, чтобы никаких неожиданностей не было.
— Распространена точка зрения, что лимфоузлы — наиболее уязвимая для возникновения рецидивов зона. Это не так?
— Рецидив там возникнуть не может, если лимфоузлы изначально не поражены. Да, они уязвимы, но не рецидивом, а, как правило, первым этапом распространения. Если же они поражены в послеоперационном периоде, удаление лимфоузлов тоже не всегда нужно. Сегодняшние подходы дают возможность облучать зоны лимфоузлов в случае метастазов. Удалять же лимфоузлы без показаний, заодно, как делают некоторые хирурги, я считаю неоправданным. Хотя утверждать однозначно, что правильно, а что нет, за всех не берусь: есть работы показывающие, что удаление лимфоузлов имеет лечебную цель. Но я в превентивном порядке лимфоузлы не удаляю.
В любом случае онкопациент требует динамического наблюдения — это истина, с которой никто не спорит. И если в лимфоузлах в послеоперационном периоде что-то появилось, подключается комплексная терапия.
— Многие годы вы оперируете с помощью робота да Винчи. А опыт открытых операций у вас тоже есть?
— Конечно, был период времени, когда я проводил открытые операции. Сейчас в основном я провожу робот-ассистированные операции, а открытые — в крайне редких случаях. Самое интересное, что если раньше у нас с робот-ассистированных операций по разным причинам слетали многие пациенты, то сейчас таких случаев почти не остаётся. Противопоказаний к таким операциям стало меньше в разы. Конечно, есть технические особенности, но факторы, препятствующие проведению операции, существенно уменьшились.
— Всегда ли робот-ассистированная операция выигрывает?
— Сравнивая открытую операцию с робот-ассистированной, мы всегда видим явные преимущества последней. Робот даёт возможность нивелировать самые разные проблемы с фантастической точностью, на какую по многим причинам не способен человек. Такие операции пациент переносит легче, значительно быстрее восстанавливается, имеет значительно меньше осложнений.
— Таких роботов в стране наверняка недостаточно, и на местах оперируют по старинке…
— Знаю, есть альтернативные фирмы, выпускающие роботов. Любая монополия — это всегда плохо. Чем больше будет разновидностей роботов, тем лучше. Отсутствие альтернативы всегда развращает. На сегодняшний день, надеюсь, не осталось ни одного ведущего хирурга нашей страны, который не понимает преимуществ робот-ассистированной хирургии. Мы же не хотим топить квартиры дровами и ездить на телеге. Робот — это инструмент, дающий возможность проводить операции на качественно ином технологическом уровне. Поэтому, думаю, роботы будут появляться в жизни хирурга всё чаще. Скоро не останется хирургических центров, где их нет.
— Бытует мнение, что роботы могут заменить человека. Нет такой опасности?
— Тоже слышал такую точку зрения. Люди спрашивают: а как вы запускаете этого робота? Вы его вообще контролируете? Понятно, что оперирует хирург. Если у него нет опыта и знаний, ничего не получится.
— Сколько нужно сделать операций, чтобы почувствовать себя уверенным?
— Честно — не знаю. Считается, что 50 самостоятельных операций дают возможность говорить об усвоении техники. При этом — вот ты сделал сто, двести, тысячу операций, вроде бы всё уже видел и всё знаешь, но нет — каждая операция может принести какую-то неожиданность. Это тяжело прежде всего для хирурга, который пытается воспитать молодых врачей, объясняет им какие-то нюансы, а на деле всё может оказаться иначе. Каждый раз что-то новое, неоговоренное, непоказанное.
— С одной стороны это сложно, а с другой — наверное, интересно, потому что делает вашу работу творческой.
— Это правда. Работа наша очень интересная.
— Знаю, что вы мастер спорта по рукопашному бою. Вам это не мешает? Академик Могели Хубутия рассказывал мне, что ушёл из профессионального бокса, именно потому что однажды пришлось выбирать — лечить людей или калечить.
— Для меня в спорте всегда было самым трудным первым нанести удар. Мне требовалось самому получить несколько ударов, после чего возникала спортивная злость и какое-то внутреннее моральное право сражаться с соперником.
К сожалению, сейчас не остаётся времени даже дойти до спортивного зала. Последние соревнования, в которых я профессионально выступал, были лет 20 назад. Я очень любил этот спорт, особенно когда стал инструктором и обучал детей от 6 до 16 лет. Появился педагогический опыт, который я считаю ценным. Когда ты за полгода добиваешься результатов, на которые люди тратят годы, это впечатляет.
— Как вам это удавалось?
— Есть такой подход — сделай тысячу раз, и на тысячу первый получится хорошо. У меня был другой подход: сделай десять раз максимально правильно и хорошо, и тогда тебе не придётся делать это тысячу раз. Когда это становится интересно шестилетнему ребенку, и ты видишь у него красивые, техничные движения, то получаешь от этого удовольствие.
— Сейчас вы своим спортивным преимуществом как-то пользуетесь?
— Никогда. Я всегда понимал, что могу нанести травму человеку, и это накладывает дополнительную ответственность, даёт понимание, что я не имею права так делать. Наверное, возможны исключительные случаи, но у меня их, к счастью, в жизни пока не было. Но вообще, когда люди даже в научных кругах слышат о моей спортивной карьере, их отношение ко мне резко меняется. Меня это немного огорчает и удивляет. Хотелось бы, чтобы меня оценивали как учёного, как врача, способного помочь людям, а не как человека, который может настучать по башке.
— Мы говорили о разрушительной роли стресса. Чувствуете ли вы, что благодаря работе лучше переносите стрессы?
— Да, наверное, чувствую. Как-то я взял отпуск более продолжительный, чем обычно. Устал. И уехал. И в какой-то момент осознал, что я счастливый человек, потому что связал свою жизнь с любимым делом — с медициной. Мне нравится оперировать, я люблю учить молодых врачей, приезжать в субботу или воскресенье к пациентам, которые не ожидают этого, они удивлены, радуются. В молодые годы я смеялся, что пациенты верят: чем чаще к тебе подходит врач, тем больше он тобой занимается. Это, конечно, не так, но это внимание реально помогает. Сейчас я это понял. Пациент может быть напуган, он может задавать одни и те же вопросы тысячу раз, потому что у него стресс, и ты должен иметь терпение им отвечать. Ты просто должен делать свою работу так, как хотел бы, чтобы делали те врачи, к которым ты, может быть, когда-нибудь попадешь как пациент. Конечно, ты не можешь при этом гарантировать, что именно так и будет. Негатива всегда хватает. Но это будет уже не твоя проблема, а ты сделай всё максимально хорошо — так, как только способен.