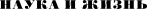— Это страсть?
— Скорее — необходимость. Наступает время, когда затягивает рутина, и прыжки помогают не стать с возрастом «одуванчиком». Парашютисты — интересные ребята, классные профессионалы, которые умеют работать. Кроме того, прыжок с четырёх тысяч метров будоражит кровь, даёт ощущение полёта, свободы. А если ещё прыжок затяжной... Трудно передать, что чувствуешь. Тот, кто хотя бы раз прыгал, поймёт меня.
— А какое влияние на выбор профессии оказал отец? *
— Повлияла атмосфера творческого труда, которую отец всегда создавал. Есть прекрасная поговорка: «Глаза боятся, а руки делают». Он придерживается этого принципа, а следовательно, и люди вокруг него действуют точно так же. Нельзя раскисать, просто надо работать. Это главное лекарство в жизни от всех болезней и напастей.
— Отец привил вам интерес к океану?
— И любовь тоже. Мы всегда вместе с океаном — и в жизни и в науке. В трудные 1990-е годы коллектив Мурманского морского биологического института, который возглавлял отец и в котором много лет проработал и я, стал работать еще энергичней и эффективней. Такую возможность конечно же дал океан. Перед нами встала дилемма: жить по-старому и потихоньку исчезнуть или перестроиться и, учитывая новые условия, войти со своими разработками в рынок? Мы приняли участие в исследованиях океанического шельфа, начали помогать нефтяникам и газовикам. В то же время ни на минуту не забывали о фундаментальных исследованиях, на которых и держится современная наука.
— Вернёмся на несколько лет назад. Где вы учились?
— В 1989 году окончил Ленинградский университет, географический факультет, кафедру океанологии. Учился у академика Алексея Фёдоровича Трешникова. И вокруг него были профессиональные, грамотные специалисты, так что с учителями мне повезло.
— Молодость в основном прошла на Севере?
— На самом деле меня можно назвать человеком мира. Могу сказать, что я из Москвы, из Питера, из Мурманска, из Ростова-на-Дону и так далее. Все эти города считаю своей «малой родиной». Ну и суда, на которых ходил по морям и океану, участвуя в разных экспедициях. География — наука безмерной широты, и она даёт возможность побывать в разных точках земного шара. Это особенность профессии.
— Но ваша «узкая» специализация связана с радиохимией?
— В 1986 году, когда произошли события в Чернобыле, интерес к радиохимии существенно возрос. Я начал заниматься искусственными радионуклидами. В начале 1990-х «атомный Север», в том числе и Новую Землю, полностью открыли для исследователей. Наши работы по изучению радиоактивности в этом регионе были востребованы. Наметился и ряд фундаментальных проблем, в частности, нам предстояло выяснить, что происходит с радиоактивным веществом в морской среде, как оно трансформируется. Баренцево море — это и гигантское водное пространство, и очень разнообразный мир, который мы изучали пятнадцать лет.
— Как это было организовано?
— Прежде всего — морские экспедиции. Все наши выводы основаны на конкретных материалах, на цифрах. Мы вели измерения в море час за часом, день за днём, месяц за месяцем. Основная цель — изучение распределения радиоактивного вещества по всему водному пространству.
— Но модель какая-то была?
— Было понимание того, что северные моря — это сложнейшая экосистема. Мурманский морской биологический институт исследовал всю массу Баренцева моря, то есть изучал его не только как географический объект, но и как целостную систему. Это и рыба, и биомасса, и животные и так далее. Нам было важно понять, как в этой системе ведут себя радиоактивные вещества, где происходит их концентрация?
— Мне кажется, это очевидно! К примеру, есть Новая Земля, ядерный полигон, бухта Чёрная, где проводились взрывы...
— Их локальное влияние, конечно, есть. Мы вели работы в Чёрной губе. Исследовали, как изменяется радиоактивность при удалении от берега.
— Недавно я узнал, что после Чернобыля радиоактивные осадки выпали на дно Киевского водохранилища и так и лежат там. Подобное возможно на Севере?
— Нет. Водохранилище — это не открытый океан. Если система небольшая или замкнутая, в ней есть свои особенности. Возьмём, к примеру, Азовское море. Оно загрязнено даже больше, чем Баренцево, хотя здесь никаких атомных объектов нет. После Чернобыля все радиоактивные вещества, что попали в Азовское море, так и остались там, поскольку система практически замкнутая. На Севере «размыв» всё-таки идет, ведь море самоочищается.
— Но вы можете, например, определить, насколько сильно загрязняет Баренцево море атомный центр в Англии?
— Современная наука, безусловно, обладает методами и аппаратурой, необходимыми для точного определения, кто и что загрязняет Мировой океан. Выявление источника изотопов — очень тонкая работа, не каждая лаборатория может её выполнить, но Радиохимический институт в Санкт-Петербурге на такое способен. Его специалисты установили, что цезий в Баренцевом море действительно из Великобритании. Англичане пытались это опровергать, но в конце концов вынуждены были признать точность расчётов и исследований российских специалистов. Правда, информировать общественность своей страны они не торопились, предпочитая больше говорить о Чернобыле. Хочу сразу всех успокоить: концентрации английского цезия в водах Баренцева моря чрезвычайно малы, его можно обнаружить только с помощью специальной аппаратуры, которая была создана в нашей стране при осуществлении Атомного проекта СССР. И всё равно вокруг этого вопроса очень много фантазий и мифов...
— Хотелось бы услышать конкретный пример.
— Например, люди по незнанию не видят разницы между естественными и искусственными изотопами. А между тем она очень существенна. В природе есть калий-40. И в том самом «английском следе» он тоже есть. Но радиоактивность природного калия-40 в десятки раз выше, чем искусственного. Однако противники атомной промышленности стараются об этом не упоминать. Не следует думать, что я не понимаю опасности радиоактивного загрязнения окружающей среды, и в особенности северных морей. Великое благо, что прекратились ядерные испытания, — они наносили огромный экологический вред. Однако в Европе есть два атомных предприятия: одно — в Англии, в Селлафилде, другое — наш «Маяк», под Челябинском, которые очень опасны. Они загрязняют северные моря: английское — напрямую, а «грязь» с «Маяка достигает Северного Ледовитого океана через систему рек. Когда в 1990-е годы мы занимались этой проблемой, считалось, что есть только один источник загрязнения — «Маяк». И говорили только о нём. О Селлафилде молчали, «стеснялись» упоминать англичан. Но проблема отходов, хотим мы этого или нет, остаётся.
— Как вы считаете, где их лучше всего хранить?
— Моё личное мнение: хранить радиоактивные отходы лучше всего в океане, то есть в большой водной системе, где даже в случае утечки радиоактивность будет «разбавлена».
— Это очень смелое утверждение, которое сразу же вызовет шквал критики. Помню, когда американцы начали это делать, то во всём мире прошла волна протестов. Да и нашим учёным досталось, когда рядом с Новой Землёй они опустили на морское дно активные зоны реакторов ледоколов и подводных лодок.
— Протесты понятны и объяснимы. Но хранить радиоактивные отходы, раз уж они есть, где-то надо. И из всех зол следует выбирать наименьшее. На мой взгляд, наиболее безопасное место, даже в аварийных ситуациях, — самые глубокие впадины на дне Мирового океана.
— Или, может, стоит выбрасывать отходы на Солнце!
— Хороший вариант, но есть ли и в этом случае полная гарантия безопасности? Любая авария при выводе ракеты на траекторию полёта вызовет всемирную катастрофу. Нет, уж лучше в океан. Пока. А потомки наши наверняка ещё что-то придумают...
— Вы очень любите Север, а работаете на Юге. Почему?
— Потому что так карта легла. Но с Севером я не порвал, там остались мои ребята, езжу туда регулярно, приблизительно раз в месяц. Ну и постоянная связь по Интернету. Мир стал иным, расстояния сегодня не имеют значения.
— Как вы оцениваете деятельность Южного научного центра? Какова, на ваш взгляд, его роль в отечественной науке?
— Вопрос серьёзный, потому что можно рассуждать в масштабах одного года, пяти лет или отдалённого будущего. Для сегодняшнего дня создание и существование Южного научного центра РАН — безусловно положительное событие. Вокруг него собираются люди, которые хотят сделать что-то полезное. Сейчас в системе Академии наук вполне можно найти интересную работу. Есть несколько направлений, которые худо-бедно финансируются. У нас нормальное техническое обеспечение, оснащение лабораторий хоро-шее, и за это спасибо руководству Академии. Другой вопрос: есть большой провал в исследованиях. Мы потеряли время. Сегодня, чтобы выйти на передовые рубежи, недостаточно купить современную технику. Это сделать несложно, но в один миг воспитать специалистов невозможно! Я трачу уйму времени, чтобы их найти. С одной стороны, есть выпускники ростовских вузов, которые хотят, но не могут работать в силу отсутствия опыта и недостаточности знаний. С другой стороны, есть иная категория людей, как говорят, в возрасте — они могут, но не хотят работать. А среднего поколения нет. Я подбираю специалистов в Москве, в Питере, пытаюсь найти аспирантов. Однако заманить людей из обеих столиц в Ростов практически невозможно. Даже обещание квартир и приличных зарплат не даёт результатов, и это реальность.
— Я помню, когда создавались новые научные центры в Новосибирске и на Урале, учёные туда рвались!
— Это было давно, совсем в иное время. Сейчас, пожалуй, таким же образом рвутся в Америку и в Германию... Проблема с научными кадрами острейшая, а потому, если говорить о перспективах на год-два, речь идёт, прежде всего, о создании хороших возможностей для работы. Так что ближайшая перспектива — формирование коллектива.
— А как вы считаете, уровень образования за последние годы снизился?
— Давайте говорить конкретно. Одно из направлений, которое я курирую в Южном научном центре и которое обеспечено новейшим оборудованием, это молекулярно-биоло-гические исследования. Речь идёт о суперпередовых технологиях. Методики развиваются очень быстро. К нам приходят выпускники Ростовского университета, но они не могут работать с такой аппаратурой, хотя химический факультет там очень сильный. Наука идёт вперёд быстрыми темпами, а образование не успевает за её развитием. Поэтому найти специалиста нелегко.
— И всё-таки о перспективах...
— Нормальная конкретная работа делается в среднем лет пять. За это время можно создать хороший коллектив и получить неплохие результаты. Мой опыт, приобретённый в Мурманском морском биологическом институте, показывает, что в работе необходимо постоянство. Если есть провалы — временнЫе, информационные, то потом их ничем восполнить нельзя.
— То, что сегодня происходит соединение высшего образования и науки, на ваш взгляд, необходимо? В частности, я имею в виду создание Южного университета и объединение его с Южным научным центром?
— Мне кажется, что в этом есть необходимость, ведь для работы в науке очень важно хорошее образование. Всё зависит от конкретного человека. Если пять студенческих лет прошли с полной нагрузкой, то успех в жизни обеспечен. Для этого есть все возможности. И не только на Западе, как принято считать, но прежде всего в России. В частности, наша академическая система на юге России открыта для сотрудничества, а потому договор с университетом конечно же полезен.
— Вы разделяете идею академика Колесникова, который предложил в основу развития экономики страны, а следовательно и науки, поставить железные дороги? ** Это своеобразный «Космический проект» и «Атомный проект» России ХХI века?
— Идея, безусловно, классная. И я поддерживаю Владимира Ивановича. Нужно только наполнить её конкретными проектами и задачами, подключить лучшие институты и научные организации страны. Однако сделать это непросто. В принципе нужны мощные проекты, позволяющие сосредотачивать людские и материальные ресурсы на прорывных направлениях. Яркий пример тому, как вы верно заметили, решение атомной и космической проблем в СССР. Но наука должна развиваться по разным направлениям, и об этом следует помнить.
— Вы сказали, что прыжок с четырёх тысяч метров — нечто незабываемое, а рывок или прорыв в науке — это что?
— Я искренне завидую тем людям, которые ещё ни разу не прыгали. Они переживают, ждут чего-то необычного, боятся. А потом прыгают, и всё остается позади. Ещё прыжок, третий, пятый, десятый, сотый. А дальше что? В науке каждый раз надо ставить новую задачу, преодолевать себя и идти дальше, к неизведанному. Этим и хороша наука, она даёт возможность постоянно испытывать новые ощущения, новые эмоции, получать новые знания. Разве это не прекрасно?!
— Когда в 2001-м вас избрали в Академию, были необычные ощущения, ведь 35 лет — возраст для членства в РАН совсем молодой?
— Честно говоря, для меня всё это было игрой. Я не ставил перед собой цель обязательно быть избранным, вовсе нет. Помню, как месяца за полтора до выборов нас всех собрал известный океанолог академик М. Е. Виноградов. Это была конференция, на которой каждый из претендентов делал доклад. Было до десяти человек на одно место, и каждый понимал, что шансов на избрание очень мало. Но меня волновало не это. Мой доклад выслушала уважаемая аудитория —специалисты высокого класса, которые понимали суть проблемы. Потом были вопросы, интересное обсуждение. Вот что приносит удовлетворение. Если бы меня не избрали, то я особенно не переживал бы. Но приятно, не скрою, что это случилось, потому что членство в Академии открывает новые возможности в работе.
— Итак, вернёмся к вопросу о том, что будет с Южным научным центром через 50 лет?
— Я хотел бы, чтобы у людей не пропал интерес ко всему новому. И тогда в повседневной рутине они будут помнить, что есть масса очень важных и интересных вещей, которыми стоит заниматься. Если это будет так, то судьба Южного научного центра сложится счастливо, так же, как судьба Сибирского, Уральского и Дальневосточного центров нашей Академии. По крайней мере, я хотел бы этого. На мой взгляд, рождение и развитие Южного научного центра РАН свидетельствует о том, что наука жива, идёт вперёд и у неё в России хорошее будущее.
Комментарии к статье
* Об академике Геннадии Григорьевиче Матишове, председателе Южного федерального научного центра РАН, см. «Наука и жизнь» № 11, 2007 г.
** Беседу с академиком В. И. Колесниковым см. «Наука и жизнь» № 1, 2008 г.